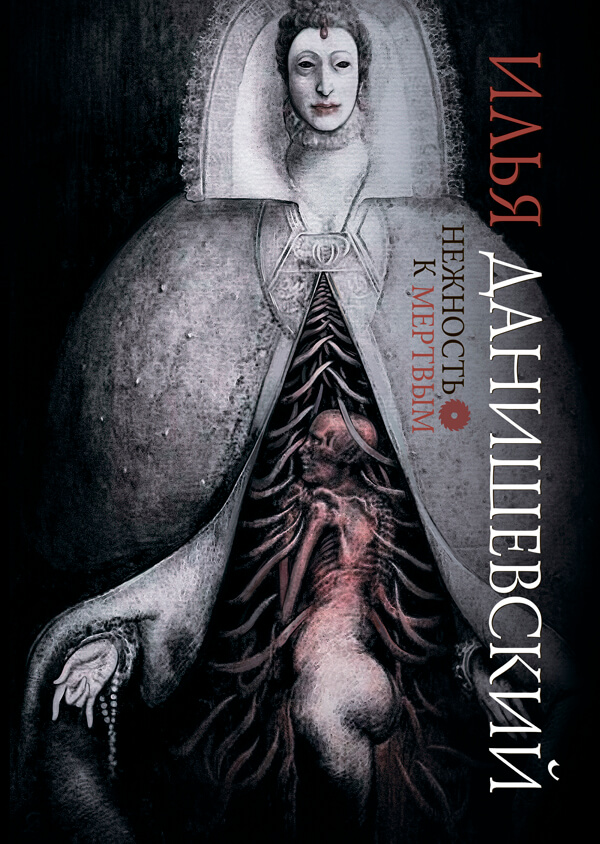Страница:
4. Fuck you and Goodbye (разврат в Беркенау?)
Место действия:
Зал суда, красивый, в офисном стиле
Действующие лица:
Я
Убийца
Наделенное властью лицо
Джекоб Блём
Вязаные присяжные
Слепой мальчик
Парализованная нимфоманка
Маргарита Бергштайн
Тысячи анонимных преступников
Весенний свет проникает в зал суда. И никаких посторонних запахов, и приятно пахнет свежей мебелью. Этот запах говорит «выйти вперед», ведь запахи многое говорят; особенно в зале суда. Я вижу многие ряды присутствующих, они связаны из черной шерсти и акрила; судья тоже вязаный, нити пахнут Gucci by Gucci. Иногда кажется, что в суд, как на сцену, не допускаются смертные; чудовища в вязаных кожах, крупные петли, и видны узлы, медленно двигаются в весеннем свете. Окна плотно закрыты, а занавесок нет. Но как бы не казалось, происходящее очень значительно, оно будет транслироваться по центральным каналам; раньше транслировалось и продолжение с казнью, но теперь уже нет, зрелище смерти признано нерентабельным.
Мужчинам и женщинам очень значительно происходящее – особенно проституткам в Новой Гвинее; особенно слепому мальчику в первом ряду. Я слышал, что каждая вторая женщина Гвинеи подвергается ритуальному насилию, их, как у нас говорится, fucking and goodbye; мальчик в черных очках стойко держит за поручни кресло-качалку, его пальцы не дают парализованной даже вздохнуть; незрячие всегда на коне и с социальным пакетом в кармане.
Сегодня мы восседаем, чтобы творить Божественную справедливость на неудобных стульях. Возвращать ее на положенное место, как украденных кошелек или зря растраченную девственность. Люди в зале суда не совсем люди, а как бы их вязаные аналоги, чтобы действие имело театральных характер и звонкий пафос. А еще – чтобы эти серийные убийцы после освобождения (всегда не более 12 лет тюрьмы, даже насильнику младенцев, даже чему-то стоящему) не выследили своих обвинителей. Существуют специальные фабрики, которые прядут Судебные Нитки; конечно, такие фабрики существуют, ведь в Венесуэле есть кладбище для лубутенов; есть горе сотен заплаканных девочек, хоронящих свои туфли; ведь на Байкале есть насос, который профильтровывает рыбье дерьмо, чтобы озеро оставалось чистым; ведь в Каннах есть сады, где пальмы плодоносят золотыми ветками; конечно, существуют и волшебные фабрики, где тысячи фей-эмигрантов с бурым цветом кожи денно и нощно прядут пряжу для судебных костюмов. Волшебные нитки пахнут чужими странами, но индустрия парфюмерии не дает присяжным задохнуться. В общем, все вязаные, и значит, уже как бы не люди, что позволяет ничего не прятать и обнажать все человеческое. Каждому хочется впаять максимальный срок. Конечно, если ты в вязаном шлеме и все шлюзы открыты, ты хочешь, чтобы девочка, укравшая баранку, отправилась на электрический стул. Волшебные нитки вберут в себя горести; волшебные нитки опутали совесть. Только так и никак иначе можно стать полностью человеком.
Я хочу, чтобы судья имел шутовской колпак, и, раскачивая головой, издавал погребальный звон. Я хочу, чтобы у присяжных в вязаной непроницаемости была прорезь в промежности, чтобы они могли, так сказать, в более тесном контакте друг с другом обсуждать приговор. Я хочу, чтобы казни снова транслировали по радио, крики умирающего по радио, я хочу билборды с жертвами, я хочу умереть. Но я сижу на новом стуле, последний ряд, самые дешевые места на утреннее представление. У меня спазмы анальной решетки, геморрой кровоточит на казенный стул, я закидываю ногу на ногу и меняю положение, но мне ничего не может помочь. Моя запущенная ректальная реакция уже пропускает сквозь нервы боль, а значит представление испорчено.
Слепой мальчик гладит парализованную женщину по седым волосам. Одна из присяжных говорит, что почему-то пахнет рыбой. Все ждут обвиняемую. Скоро она должна войти, пройти мимо нашего амфитеатра, встать за кафедру и начать свою прелестную историю. Она должна ответить, на кой черт убили учительницу французского. На улице весна, присяжным хочется быть котами и языком готовить свою промежность к ночной работе. Зал суда раскаляется от сотен зловонных выдохов и горячего солнца. Скоро убийца должна войти в зал. Под крик «встать, зло идет» мы поднимем наши попки с твердости казенной мебели, мы вскинем ладонь в приветствии чудовища, а затем сотрем его с лица земли нашим приговором. Я слышу, что кто-то шепчет «двенадцать смертных казней подряд», и кто-то поддерживает «да, одну за другой, без передышки», и третья говорит «…множественные оргазмы», а я хочу выйти из круга смерти и рождения. Мне хочется открыть окно и шагнуть. Но судебные окна очень узкие, убийце запрещено убивать себя самому. Вязаные палачи возьмут все в свои руки и священным жертвоприношением успокоят волнения общества. Как известно, рак груди, молочница, экзема и катаракта существует по вине серийных убийц. Как известно, плодоносящая мать полезна для общества. И вот она здесь – убийца/плодоносящая мать – огромный гранат, в сотах которого змеи, огромное чудовище как бы кентавр, у которого верхняя часть обезображенный челюстями хищника женский круп, а нижняя плодоносящий гибелью и змеями гранат, – мы отрываем себя от стульев, мы приветствуем хрупкую женщину, героиню таблоидов, объект массовой истории, самозабвенного рукоблудия, убийцу учительницы французского.
…как известно, сакральность судебного процесса изведана до дна. Ее открыли в античном Риме, где один патриций подавал обвинение другому, и кто-либо из них вскрывал себе приговоренные к вскрытию вены, конечно, лежа в океане роз; продолжили в Средние Века, где два рыцаря тянули на себя доступного для перепихона оруженосца; торжествуют и сейчас, кланяясь красоте убийцы. Вот она здесь. Вот она – ЗДЕСЬ! – среди нас, как ангел, как первый симптом СПИДа, как две полоски на тесте, как удар молнии, как асфиксия. Смотрит на нас с высоты своих туфель, из-под темных волос, о лезвие бритвы, смотрит на нас, моложавая убийца учительницы французского. Метр шестьдесят пять, одежда куплена в Милане, парижская стрижка, хладнокровная книгоиздательница с белой зарплатой, как стоимость Аляски. Она стоит перед судом. И знаете что? У всех стоит на нее. Так всегда случается. Это прелюдия к Божественной Справедливости. И знаете что? Женщин в присяжных больше – ей отвесят пожизненный. Она покусилась на святая святых. Она одета дороже, чем человеческая жизнь. Она должна быть убита. Мир любит богатые похороны. Пусть ее положат, как фараона, в сорок гробов, и пять тысяч мужчин будут тащить на своей спине погребальную матрешку. Пусть семь тысяч нищенок в венках акации и нарциссов скорбно пляшут на огромном кургане ее могилы, пусть пригонят кастратов и пусть те поют, пусть кастрируют безработных, если не найдется кастратов; пусть в городе пустят слезоточивый газ, чтобы весь город плакал на ее похоронах; пусть издаются книги о ней. Пусть издаются книги, как бы написанные ей. Пусть взлетят в топы женщины, похожие на нее. Пусть будет так, но вначале – смертная казнь. Маленькая инъекция или электрический трон. Все, что угодно. Пусть отменят мораторий. Сегодня очень душный день, чтобы она осталась в живых. Если же так – ее удушат судебным нитками разжиревшие присяжные. Климакс толкает к убийству, а она – убила школьную учительницу.
Я завсегдатай громких процессов. Вся человеческая скорбь в моих ладошках. Мне нравится, когда плачут в мои пальцы. Иногда я прошу, зазываю «пописай в мои скромные ладошки», и иногда они писают, ведь женщину так легко подтолкнуть к пустоте. Обычно я зарабатываю интервью, менеджер по интервьюированию, среднее звено. Меня интересуют серийные убийцы, но никто не подпустит меня к их мощным светящимся эротическим светом телам. Мне достаются их жены, мужья, собачонки, подружки юности, случайные любовницы, бармены в гей клубах или танцовщицы, – в общем все те, кто когда-либо пожимал руку Банди или Фишу. Я спрашиваю у них, мэм, как же это – быть матерью Банди? – и она говорит, что это так утомительно, и при этом так задорно и так жутко; отец, каково это породить Маргариту Бергштайн, и слышу, что это было хлопотно, жаркой июльской ночью я оседлал жену, добротную и телесную фрау Бергштайн, и вот что вышло; фрау Бергштайн, какой Маргарита была в детстве? Очень кроткой, я и подумать не могла, что она и цианид, шестнадцать мужчин, нет, я до сих пор в это не верю, ЖЕРТВА КЛЕВЕТЫ, ЖЕРТВА МАРКЕТИНГА, МЕНЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ УБИЙЦ ВЫБРАЛ МОЮ МАРГАРИТУ! Успокойтесь! Сэр, правда, что вы были знакомы с мсье Тювером? Да-да, только одну ночь. Скажите, это ведь вы протирали столы в тот вечер, когда мсье Тювер сидел со своей первой жертвой и курил одну за одной? – и слышу, что да, это была она, именно эта блондинистая официантка своей красивой рукой, какие жилки, протянулась к пепельнице и взяла ее своими пальчиками прямо в тот момент, когда мсье Тювер, сидящий в ночном кабаке со своим любовником и первой жертвой – там, через два часа уже мертвым – стряхнул прямо в поднимаемую пепельницу; да, я прославилась, мне повысили жалование, наше заведение так и называется «В сторону Тювера», я написала книгу о нашем кратковременном знакомстве, я счастлива была взять его пепельницу, он курил парламент, ах, какой мужчина! Госпожа, не вы ли работали в детском саду, где маленький Альфред Пипкен, убийца шестидесяти четырех мужчин, Венский душегуб, писался в штаны и не хотел пользоваться дневным часом для сна?, – и слышу, что она не помнит этого, хотя тысяча журналистов напоминают об этом ежедневно, и вообще, она благопристойная протестантка, и она протестует, чтобы ее как-либо связывали с деятельностью Альфреда Пипкена. Но госпожа(!), все его жертвы были выходцами из вашего детсада, возможно, именно вы отбирали для него жертв(?), и чтобы отвести от вас подозрения, он выждал двенадцать и более лет, чтобы напасть на жертву? Что вы такое говорите (!), конечно, нет, моя дочь музыкант, она играет на скрипке! Господин ***, почему вы переехали из Буэнос-Айреса, не потому ли, что г-ин Жобо был вашим амиго? Нет-нет, мы поссорились до того, как он стал серийным убийцей, я даже думаю, что он начал убивать именно потому, что поссорился со мной. Господин ***, вы были любовником г-на Жобо? Не более одной ночи (признание на миллион!), или не более двух ночей.
И вот моя коллега по книгоизданию, кровью плачущие ягодицы, стоит за кафедрой. Кажется, камера временного заключения не уничтожила в ней женщину. Возможно, парижские парикмахеры и миланские стилисты могут найти тебя, где угодно. Стрижка по телефону и педикюр-online. Сейчас она расскажет, зачем совершила убийство. Эти истории всегда трогают сердце своей неприкрытой трагичностью, она напоминают замерзающего котенка, они самоценны, как шестичасовой куни-марафон.
Наделенное властью лицо. Шестнадцатого декабря прошлого года Вы совершили убийство. Следствие показало, что Вы не пытались скрыть следы преступления, и сразу отправились в ресторан. Это так?
Убийца. Да. Я была со своим другом. Больше, чем другом, но не любовником. Просто – больше, чем другом.
Наделенное властью лицо. Что Вы заказали?
Убийца. Кофе. Два кофе по-венски. Не знаю почему. Мой друг устриц. У него начались проблемы с потенцией, и ему сказали, что устрицы помогают.
Наделенное властью лицо. О чем Вы говорили? Вы обсуждали убийство?
Убийца. Только если косвенно. Он спросил, не правда ли, сегодня небо очень серое, как пегое от гниения лицо девочки, и что не кажется ли мне, пегий от гниения – напоминает персик? А еще, не думается ли мне, что это будет очень громкая серия книг, если назвать ее «Гнилая, как персик»
Наделенное властью лицо. И что Вы ответили?
Убийца. Ничего. Я туманно смотрела в окно. Там, за окном, было серое небо. И действительно, пегое, как персик. Оно было радостным, но при этом утомленным. Небо, как мама, вернувшаяся с работы. На нем не было лица от усталости, но при этом я чувствовала, что оно радо просто существовать. Вы понимаете?
Наделенное властью лицо. Вопросы тут задаем мы. Расскажите мне об убитой.
Убийца. Нечего рассказывать. Мы были знакомы семнадцать лет назад.
Наделенное властью лицо. Почему Вы убили ее?
Убийца. Неважно. Я проснулась и поняла, что она должна умереть. Иногда ведь случается, что утром тебе приходит какая-то идея, и ты никак не можешь от нее избавится. Я позвонила своему другу, больше, чем другу, но не любовнику, и сказала – я решила, что она должна умереть. И он сказал, что не вопрос, и мы договорились встретится в 18:45, он опоздал на полчаса, и я была недовольна, мне казалось, время для ее смерти может утечь, можно упустить это течение, подсказывающее мне путь. Мы поймали такси…
Наделенное властью лицо. О чем Вы говорили в такси?
Убийца. Ни о чем. В последние годы с ним стало трудно говорить. Он живет письменным жанром.
Наделенное властью лицо. То есть Вы молчали?
Убийца. Не совсем. Он сказал, что у Тициана очень трогательно получаются бедра. Но мы не говорили об убитой. Нам не было нужно что-либо говорить о ней, мы оба знали, что она должна умереть.
Наделенное властью лицо. Каков мотив преступления?
Убийца. Его нет. На самом деле, его нет, но он есть. Это трудно.
Наделенное властью лицо. Расскажите нам.
Убийца. Мы познакомились семнадцать лет назад. Я видела ее пять или шесть раз и не более того. Она сломала мою жизнь.
Наделенное властью лицо. Как?
Убийца. Не могу понять точно. Что-то в ее жизни было такое, что навсегда испортило мою. Она не сделала ничего выдающегося. Она была… третьесортной, патологически лгущей, некрасивой. Последние лет пять или семь я не вспоминала ее. До того самого утра.
Наделенное властью лицо. Но Вы ведь анализировали свои мысли? Вы искали ответ, почему Вы хотите ее убить?
Убийца. Нет.
Наделенное властью лицо. Но почему Вы убили ее?
Убийца. Потому что могла. Я могла себе это позволить.
Наделенное властью лицо. Вы ненавидели убитую?
Убийца. Нет.
Наделенное властью лицо. Что Вы почувствовали во время убийства?
Убийца. Что я бы хотела, чтобы она умирала каждый день. Это было очень хорошо. Очень пронзительно. Очень.
Во время допроса я придумываю новые названия или создаю их вот Маргарита в Освенциме приключения Маргариты в Освенциме мой маленький Ошвиц разврат в Беркенау и все прочее. Знаете, ничего личного, но я давно не задумываясь о правильности этих поступков, об отсутствии Бога я говорю с огромным сожалениям, но радостно признаю в этом свете, что моя жизнь скоро должна накрыться – там, лет через сорок – большой и трепетной Иоландой, это мне утешительно прямо как матушкин шкаф доверху в одинаковых платьях, это так успокаивает. В основном они шелковые, а еще зимние варианты шерсти и акрила. Я уже не стремлюсь, и самое глупое что может для меня найтись – слушатель; в общем я никогда не признавал слово, такие как Иисусы, которые приняли в себя все человеческие языки – меня пугают.
Я работаю клошаром в стеклянной коробке, и каждый день громкие звуки. Утром коробка пахнет свежей мебелью, каждый день кто-то плачет и увольняется, каждый день пахнет новыми людьми с их разнообразными одинаковыми историями, каждый день я их всех покидаю в обеденный перерыв, трогательная идея Бога добротная антитеза всему происходящему с каждым, кого я могу видеть в обеденный перерыв. В общем, не думаю, что литература должна существовать, раз уж ей трудно раз и навсегда захлопнуться о любви – как же наскучило, но, впрочем, не более всего и всех прочих.
Божий день, что трагедия, повторенная дважды – суть фарс. Повторные слушания всегда поражают своей косностью. Кажется, вся душа вытекла из признаний убийца. Маргарита Бергштайн упрямо повторяла, что не знает, зачем убила шестнадцать мужчин. Возможно, она действительно не знала. Иногда ведь случается, что ты делаешь что-то случайно, а это что-то оказывается значимым. Ее прекрасные бледные волосы… уже скоро слово дадут залу, чтобы мы впились в подсудимую и высосали из нее последнее. Они спросят, как часто она бреет мохнатку. Текила или виски? Винни Пух или Пятачок? Каждый из этих вопросов очень важен в понимании мотивов убийства. Это напоминает мне громкий процесс Джекоба Блёма, проведенный, кажется, шестьсот шестьдесят шесть раз подряд, и на которых герра Блёма, твердо стоящего на признании своей вины, никак не могли признать виновным. Для наглядности его наряди в нацистскую форму. Говорят, с этим возникли какие-то проблемы, потому что на мощь его плеч никак не могли подобрать подходящую, а шить новую – как-то не комильфо, какая-то катастрофа, что-то непорядочное. И вот он стоял перед нами монументальным памятником фашистского преступления, близорукий врач холодной скалы, и отвечал, что у него нет ответа для чего и зачем были совершены его преступления. Я рассматривал холод его глаз, и не мог понять, являются ли они стеклом, пластиком или карими. Я разглядывал его бакенбарды, как бы окровавленные, но при этом прекрасные. Там, в дебрях культурного нарратива, я не мог назвать его прекрасным, но назвал бы – встретив где-нибудь в другом месте. Мои чресла дрожали. Но я говорил, что дрожат от боли. И я смотрел на него, и мне было интересно, можно ли смотреть на него вне контекста его преступления, вне умысла и причастности, мне снилось, как мы знакомимся при других обстоятельствах, в местах более темных и интимных, чем судебная камера обскура, и беседуем о чем-то вроде Шатобриана, и не приковываем к себе посторонних взглядов.
Наделенное властью лицо. Вы подтверждаете, что работали врачом в Кольдице?
Джекоб Блём. Да.
Наделенное властью лицо. Вы признаете себя виновным в преступлении против человечества?
Джекоб Блём. Я не понимаю, что такое преступление против человечества.
Наделенное властью лицо. Вы участвовали в убийствах людей?
Джекоб Блём. Нет. Но были те, кого мне пришлось убить.
Наделенное властью лицо. Что Вы чувствуете сейчас?
Джекоб Блём. Усталость.
Убийца. Усталость.
Тысячи анонимных преступников. Усталость.
Наделенное властью лицо. Какие причины Вы можете назвать побуждающими к преступлению?
Джекоб Блём. Никаких.
Убийца. «Улисс»
Тысячи анонимных преступников. Мы невиновны! Как и все преступники, мы невиновны!
Наделенное властью лицо. Задумывались ли Вы о реакции Ваших родных на совершенное преступление?
Джекоб Блём. Нет.
Убийца. Нет.
Тысячи анонимных преступников. Нет.
Наделенное властью лицо. Сожалеете ли Вы о содеянном?
Джекоб Блём. Нет.
Убийца. Нет.
Тысячи анонимных преступников. Да!
Наделенное властью лицо. Как вы можете сожалеть о том, чего, по вашим же словам, не совершали?
Тысячи анонимных преступников. Мы сожалеем о том, что было совершено кем-то, и в чем обвиняют нас. Но, конечно, мы не совершали ничего из того, что совершили эти кто-то.
Наделенное властью лицо. Как вы думаете, почему обвиняют именно вас?
Тысячи анонимных преступников. Среди нас есть женщины, а женщины всегда остаются обвиненными. Этими обвинениями из женщины хотят изгнать женщину, или же – наоборот сделать ее полноценной женщиной. Там, в тюремной камере женщина, наконец, станет самой собой, она будет заточена в четырех стенах. Но среди нас есть и мужчины, а мужчины не любят, когда их обвиняют в шовинизме. Поэтому мы обвинены ради идеи дуальности, в знак антитезы того, что во всем виноваты женщины. Мы – подтверждающая их повсеместную виновность сила. Мы зажатый государством рот, кричащий к небесам. Мы – это Гарм28, который съест луну. Мы – это тот мрак, в который закутана смерть. Мы необходимая жертвы, мы – это обрезание, необходимое для гигиены и счастья городских улиц.
28. Вслед за Фенриром, который массовой культурой почему-то получил большую известность. Вероятно, в силу значительно большей популярности солярных культов.
Наделенное властью лицо. Вы хотите обвинить наш аппарат в некой склонности к мизогинии?
Маргарита Бергштайн. Да! То есть нет! Я как бы не знаю ничего о мизогинии, я даже не знаю, что это такое, я своенравная доярка, дочь прачки, дочь бюргера и домашнего насилия. Но я думаю, вы ненавидите женщин. Ведь даже сами женщины ненавидят женщин. От этой ненависти к самой себе, организм не выдерживает и раз в месяц протекает кровью. И вы ненавидите меня тоже. На земле миллиарды мужчин, и если некоторые умерли по моей случайной вине, никому не могло стать от этого хуже. Я хочу сказать, что вы придираетесь ко мне.
Наделенное властью лицо. Вы хотите признаться, что не считаете человеческую смерть чем-либо плохим?
Джекоб Блём. Нет.
Убийца. Нет.
Маргарита Бергштайн. Ну вы ведь не знали этих мужчин! Некоторые из них были лучше других, но все же плохими. Я не хотела их смерти, но она была необходима. Если бы Бог существовал, он подтвердил бы мои слова! Клянусь Богом, так бы и было!
Наделенное властью лицо. Вы знаете имена своих жертв?
Джекоб Блём. Нет. В лагере нет имени. Это мир, в котором Имя Не Нужно. Я помню их номера, я различаю их голоса. В этих странных снах, где я иду по лабиринту, связанному из номеров, я слышу их голоса. Они проклинают мое имя. Но в ответ – я не знаю их. Это какой-то ребус, какое-то унижение, что они – знают мое имя, но анонимны по отношению ко мне. Это какое-то невежество.
Убийца. Да. Я могу его вспомнить на самом дне памяти. Но не голос. И не лицо. Когда я увидела ее, то сразу узнала, но сейчас уже снова не смогу ничего вспомнить. Она была никакой. Понимаете? Будто застиранная, потерявшая суть, утраченное содержимое. Она была, как сожженная вторая часть «Мертвых душ», сущий вымысел. Я ведь говорила – она патологически лгала. Но не это стало мотивом убийства.
Наделенное властью лицо. Что было истинным мотивом убийства?
Джекоб Блём. Все, происходящее внутри, принуждало меня к внешнему. Я не говорю об убийствах. Я говорю о нескончаемости моего внутреннего страданию. Я говорю исключительно о том, что мой духовный опыт, вероятно, превосходит Ваш, и лишь от этого проистекают все эти вопросы. На самом деле, ни один важный вопрос так и не был задан. Я действительно не могу ответить, почему внешняя сторона моей жизни протекала именно в той последовательности, в которой протекала. Но моя внутренняя сторона является причиной этой последовательности – но если Вы имеете возможность казнить меня, Вы не имеете – потрошить мою внутренность.
Убийца. Как я уже говорила – тысячу раз – так было нужно.
Тысячи историй должны смешаться в одно целое, чтобы все стало неясным. На самом деле, только в этом может существовать реальное повествование. Для меня не существует каких-либо четкостей в отношении этих судебных процессов. Все они двигаются по одному сценарию, и остаются во мне лишь особенно красивыми фразами. При долгой подготовке – судебное дело начинает восприниматься, как большое искусство. На первый план выплывает эстетика и подача. Судебное дело, как и поэзия, как преступление, может быть продуктом духовного опыта. Бывают процессы, будто плачущие женщины. Бывают, будто извержение вулкана. Все они написаны в разных жанрах. Часто – судебное дело, как заштампованный филлер, главный герой которого – калька тысячи других судебных дел. Некоторые преступления класса А вызывают эрекцию и толпу поклонников; они вплетены в культурное ДНК; ведь всем ясно, что наличие Джека Потрошителя оправдывает 5 никому неизвестных проституток. Я вспоминаю Джекоба, гордость чудовища, будто прореха в потоке времени. И белокурая Маргарита, уютная пещера для Сциллы. Я уходил с процесса наполненным, в меня затолкнули тысячу литров жизни, я выплескивал ее на улицы стихами, забывая про ненависть к человечеству. О Маргарита, гордая дочь прачки, о Маргарита, о Маргарита…
… Курчава манда29 твоя Маргарита
Золото Сципиона, барка идущая к отмели
И сердце от сердца ее маяков
В берлоге причалов и пепла,
Коринфа разорванный берег рассветом
Кносса колодец,
Маргарита текущая по рукам,
Штилем белым расшито ее ожидание –
ставшее по ее прихоти —
Категорией святости; когда
она расчищает сухие ветки
Оставляя на них свое золото;
Вот она,
Как бомба стеклом и охровостью
Взрывается посреди Ватикана…
…доступная площадь святого Павла
29. Читай, как трепетная пизда волшебной лисы.
Наделенное властью лицо. А сейчас настало время для вопросов со стороны.
Парализованная нимфоманка. Я хотела бы испытать – так сказать, в себе – переживание вашей вины. Так сказать, действенный экстракт вашего поступка. Поделитесь, впрысните в немощь моего тела детали – самый сок – вашего действия.
Тысячи анонимных преступников. Мы забытые дети, мы бежали из колыбели в поисках матерей. Мы находили мужчин и женщин, которые клялись нам в любви, но обманывали нас, и мы бежали дальше. Туда, где раскаленное солнце. Туда, где колючее море. Нас целовали, затылком прижав к колючей проволоке, мы нежно брали в рот, но никто не признал нашу нежность рентабельной. Мы отброшенные и забытые молитвы, живущие в век прогресса. Мы оккультная наука, спящая под плинтусом. Мы мертвые, согласные на некрофилическую любовь живых. Мы молимся мертвому божеству, сидящему посреди некрополя Царства Небесного, мы в птичьем плаче ищем предсказания, мы уничтоженное племя в убийстве, искавшее свободу; мы отправлялись на каторгу за поиском любви заключенных и стражи, мы изнасилованное потомство; мы – метафора всего человечества. Мы – верлибр, зачем-то покинутый божественной рифмой; мы непонятая строка сложного искусства. Мы – Джойс в царстве корпоративной истории.
Парализованная нимфоманка. Я вкушаю. Давно уехавшая от мужа, я понимаю. Я ехала, куда глядят глаза, а точнее – где проложены дороги для таких, частично мертвых, но моя жалость к вам не остыла, я прихожу на суды из века в век и во мне остаются ваши истории, ваши слезы в моем жерле, я сосуд, наполненный вами, я вампир, питающийся кровью преступников, вечная дева сострадания, Магдалина нескончаемых преступлений, я все понимающая и все вбирающая куртизанка, лежащая на постели индустриального общества. Мои отбитые ноги символизируют невозможность нахождения истинного пути. Моя седины – мое понимание. Коляска означает город. Мой череп, обитый кожей – это судебный зал, внутри которого разум приговаривает сердце к двенадцати смертным казням подряд. Я – ночная Магдалина, в молодости выпившая кровь собственного ребенка, и растопившая его кровью свое ледяное сердце. Я – та женщина, которая отыскала женственность в болотистой чаще собственного тела. Мой внутренний мир шире, чем площадь святого Петра.
Маргарита Бергштайн. Я приходила, чтобы покорить мужчин своей кротостью. Большая грудь, узкая писька и широкое сердце – вот мои орудия. Но там, где мужчинам предлагают выбор, они никогда не выбирают сердце. И убийства шли из него, из моего сердца, которое было отвергнута. Я плачущая шестерка мечей, я решительное торжество сердца над грубой материей.
Джекоб Блём. Я читал книги и вскоре забывал их. Но книги – держались в моей памяти дольше, чем память о том, что Вы хотите услышать. Моему внутреннему миру закрыты факты преступлений, о которых Вы спрашиваете. Мой мир уничтожает все лишнее, память избирательна.
Убийца. Сейчас, после того, как трагедия превратилась в фарс, а фарс в мистерию, я начинаю глубже понимать случившееся. Теперь, парад планет, таинство для меня раскрыто. Судебный зал предстает обсерваторией, и я смотрю в себя. Я приехала в город, где никогда не была, чтобы убить женщину, которую не видела семнадцать лет. Во всем этом нет никакой видимой сути, но существует внутреннее напряжение. Моя внутренняя правда не лжет – учительница французского должна умереть. Я нашла ее адрес, это было несложно, и поднялась по лестнице. Позвонила в дверь. Застрелила ее. Это было стерильное убийство. Никакого насилия, никакого аффекта. Мы выкурили в квартире убитой и отправились в ресторан. Нет, мы не праздновали убийство, но и не бежали его. Это было необходимое действие в нашей индивидуальной истории. Мне ясно, что никакой личный мотив не может быть обналичен, мне ясно, что никогда моему сердце не быть ясным и вам, мне ясна бессодержательность слова. Как книгоиздателю, мне это, конечно, очень ясно. Но сейчас – ваши вязаные лица, инфернальная дама в коляске и ее инфернальный поводырь, сам судебный зал, сквозь который призрачной процессией стремятся воспоминания – я могу ответить вам о внутренней сути этого убийства.
Наделенное властью лицо. Отвечайте же!
Убийца. Случается, что какое-то слово видоизменяет действительность. Там, семнадцать лет назад ее слова изменило действительность – в худшую сторону. И я не смогла с этим смириться.
Наделенное властью лицо. Что это были за слова?
Убийца. Я не помню. Во мне живут только последствия.
Наделенное властью лицо. Почему через семнадцать лет?
Убийца. У меня нет ответа.
Наделенное властью лицо. Сейчас Вы раскаиваетесь?
Убийца. Нет.
Наделенное властью лицо. У присутствующих еще есть вопросы?
Слепой мальчик. Мое зрение выжжено ударом отчима, но подарите мне фотографии ваших жертв.
Тысячи анонимных преступников. Пустые карманы, облезлые и грязные тела, мужчины и женщины, братская могила, стеклянная башня, древо Сфирот, книга Перемен, убитые мальчики и девочки, газовые камеры, далекий лес.
Джекоб Блём. Они выглядели так, что не заслуживали того, чтобы я их запомнил.
Маргарита Бергштайн. У них были маленькие сердца. Но иногда у них были большие, и они принуждали меня.
Убийца. Учительница французского. Просто учительница французского. Учительница французского – это многое рассказывает. Узкие джинсики, моложавая, дерзкая, разбитная. Она не нужна. Она была не нужна. И поэтому ее не стало.
Наделенное властью лицо. Ваше последнее слово!
Тысячи анонимных преступников. Конечно, невиновность!
Парализованная нимфоманка. Еще…
Слепой мальчик. Существование нелегитимно.
Джекоб Блём. Кажется, я отыскал квадратуру круга.
Маргарита Бергштайн. Я хочу любви!
Убийца. Она просто была не нужна, понимаете?
Наделенное властью лицо. Нет.
Он говорит «нет» – всем ожиданиям, всем предложением. Вязаный рот говорит «нет», заседание окончено, его продолжение назначено на следующую пятницу. Вот остановлен поток памяти. Вот мы встаем и прощаемся с убийцей. Вот мы застегиваем пальто, укутываем наши воняющие тела в материю. Отправляемся по своим делам. Получаем деньги за распространение материалов по делу стерильного убийства учительницы французского, вот в нас что-то меняется от вновь привнесенного преступления, от соглядатайства и сотрудничества. Растворяются дымом парализованная и слепой, вязаные маски летят на пол. Мы покидаем зал суда. Уже ночь и свет перестал проникать в окна. Весенняя ночь холодна. Пятничной ночью я пялю коридор рентабельности уличной шлюхи, мой издательский портфель забит нетленками, и я хочу сжечь его. Только густое отвращение к человеку и его переживаниям позволяет мне хорошо выполнять свою работу. Нет, вы не подходите нам, fuck you and goodbye. Десяток в день и сотня за месяц – отвергнутые писатели устраивают плач к небесам. Возможно, они кончают собой или убивают своих жен, а потом возвращаются, но нет, вы не подходите нам. Я хочу, чтобы графоманы умирали от передозировки воздуха в межклеточном веществе, то есть я хочу умереть. Fuck me and goodbye, мое звонкое уединение вновь уничтожено, я снова заметил существование человечества, оно выныривает из складок, чтобы громко пернуть или признаться в любви, оно ковеном кружит вокруг KFC, оно факается, но никак не хочет проститься. Прости человечество, ты не подходишь нам, мы отвергаем твое предложение, твоя убыточная история – на расстояние шестнадцати сплетенных косичкой трупов от нас.
И вот, классическая музыка забивает твою вонь, она не нужна ни для чего больше. Как валиум, только закрой глаза, carmina burana в перегонах метро. Авторское кино, как зеркало. Ничего не нужно ни для чего, мне успокоительно нравится кольцевая – самозабвенно пялящая собственный зад.
5. Мой ласковый Нагльфар
Расколотый Лев
Мне снится, что Лиза лежит на сцене, деревянной палубе, снится, что Лиза в красном жакете, и с бутонами красных гортензий на чулках. На фоне погасшей вывески, напротив пустого зала – соблазняет голые сидения – этими бутонами красных гортензий на чулках. Она уже слегка в теле, уже оплывшая и утраченная, лежит и водит ножом по внутренней стороне бедра. Я знаю, что в своих снах – Лиза тоже водит ножом по собственному бедру. Звуки города вплывают в зал; это звук синеголового поезда и гул голосов, легкий бриз ночной улицы, запах похоти, тысячи отпущенных на вольные хлеба пожарных гидрантов, заливающих женщин; крики выключенных телевизоров, с которыми остывает у них внутри лампа, и с которой гаснет изображение. У Лизы отросли корни. Лиза лежит на сцене и гладит ножом – внутреннюю сторону бедра. Пахнет ее незабвенный цветочек в темноте. И смешивается с запахом ее волос и запахом ее красного жакета, рукава которого закатаны до локтя. В ней ничего соблазнительного, кроме мускусного телесного запаха, ночного воздуха, в котором город и Лиза смешиваются, а затем, спарившись, разделяются. Кажется, в зале никого нет, или кто-то есть, или Лизины тени пляшут, когда она двигает голой коленкой или поправляет вельветовую юбку. Ее туфли были бархатными две недели назад, но она почистила их с кремом, и всякая приятность их ушла. Я знаю ступни Лизы, мозолистые, уставшие слои кожи на ее ногах – она вернулась ко мне две недели назад – и когда-нибудь уйдет снова – и пока она здесь, рядом со мной – мне снится, как она лежит перед другими мужчинами или пустым залом – ее ступни, и выше ее голени, и выше до самых колен тянется по ноге ее кожа, хорошо мне известная. Женщина первой и бурной желанности, растекающийся между ладонями образ, когда она в объятьях моих или чьих-то еще бьется центральной жилой, и когда ее пользуют для мастурбации, точнее – когда ей мастурбируют. Она приехала в город в поисках ветра, и нашла, когда он поднимает ей юбку, когда этот самый город за окнами и стенами этого театра – она на остывшей арене лежит и чешет, и режет себе бедро кухонным ножом (и это точно не нож для вскрытия писем) – и нашла меня. Четыре года назад. Сила ее лояльности была так велика, что мы трахнулись при первой же встрече. Я был ее Мастером Украшений, я подарил ей – ожерелье-монисты-серьги из дорогих камней, тем дороже – что выкрадены они были у мертвых. Я ворочаюсь в полутьме, жара пришла в город, и принесла – эти душные августовские сны о женщинах. Помнится, в четырнадцать женщины плотно пришли в меня – таким же августовским сном, – женщины стали приходить и уходить каждую ночь, лишь немного сцеживались, когда мне доводилось в ночном воздухе после учебы подцепить кого-то или же накопить денег на кого-то. Болезнь с четырнадцатилетнего воздуха преследует меня, каждую ночь, каждую ночь, и не имеет ничего общего с множеством других болезней моих сверстников… все мои чувства внутри меня – стали семенем, то есть – не просто сексоголией, но замещением. Замещением других потребностей, замещением не мысли, но желания шевелить мыслью, все мои мускульные усилия сползлись в другие узлы, ночные рефлексы двигали мое тело
Св. Иоким
Его дыхание медленно. Его дыхание, его размерные движения. Иоким коронован святым в подвальном помещении одного из филиалов Расколотого Льва. Запах вульвы никогда не тревожил его сердце. Замерзший Кай смотрит на потную от жажды Герту на своем столе. Вначале он водит ножом по ее ребрам, но этого недостаточно. Тогда он берет дрель, и оттягивает ее сосок, чтобы пробить очередную дыру. 6 мм в диаметре, главное вовремя убрать палец с курка, чтобы сверло не намотало кожу. Она начинает кричать и дергать рукой, цепочка ее кандалов мелодично звенит. Затем ее крик становится словами, и Иоким разбирает «выколи мой блядский глаз», но это аффект. В такой момент она понимает, что никогда не достигнет рая, богатые девки никогда не достигают рая, сейчас ей кажется, стоит сверлу войти в глазное дупло – мир окрасится новой радостью, но даже если Иоким дойдет до мозга – она не достигнет экстаза. Даже если рассверлить череп, выломать суставы или раздробить молотком кости запястий. Поэтому он льет на ее грудь «ананасовый бриз» и слышит, как она снова начинает выть. Ее крик поднимается до потолка, наверное, разлетается по всему городу. Из-за таких, как она, приходят эти истории – призраки, чьи крики привлекают смерть, приводят смерть за руку к постели матушки. Иоким знает, что на втором этаже в женщину вдалбливают до посинения и спускают без страха беременности. Закончившая германскую филологию в Принстоне – давно уничтожила жизнь своей матки. Ее зовут Марта. Марта Зипплер, двадцать шесть лет. По утрам она улыбается Иокиму, и он знает, что у нее не хватает одного жевательного зуба, а вместо клыков – импланты. По остальным зубам – циркулярный кариес.
Мир, в котором живет святой Иоким, очень удобен – в него никто не верит. Никто не может поверить. Не хватает силы в сердечной мышце. Стоит рассказать о нем – обвинения в гротеске, в вывернутом сознании. Город – это «маркетинг», «веселого позитивного утра», «реализация», «карьерная лестница», «бракоразводный процесс», «тайм-менеджмент» и другое. Средневековое дыхание мира Иокима – забирает навсегда, но не оставляет свидетелей. Целые районы, комнаты, чердаки, вычурные пространства, неподвластные воображению, черные повитухи и пыточные камеры стоят на страже этой тишины. Иоким расстегивает наручники и получает деньги за свою работу, но для него это – дело всей жизни. Его неиссякаемое призвание – убивать то, что хочет быть убитым. Он занимается убийством, как искусством, выверенным модернистским умертвением, постмодернистским ссылочным мышлением, он складывает из трупов своих жертв новый тезаурус. Он выходит на улицу, его большие легкие зачерпывают воздух, над его головой мертвые созвездия. Мироощущение его метафор – не существует для обывателя. Сила его успеха – в гротескности и вычурности реализации своего существования. Он фантазм, морок, симулякр большого города.
…
Это начало происходить около двух недель назад. Ровно две недели назад Лиза вернулась ко мне, и теперь уже ее существование давило со всех сторон. Ровно две недели я утопал в ней или аккуратно погружался, или дырявил новые отверстия, или заливал старые, но теперь пришло время возвращаться к обыденности. Она снова вселилась в мою квартиру, и, конечно, ей не нравилось, что большую часть дня я отсутствую, нахожусь вне Лизы. Как она объясняла, ее дырочки испытывали привыкания к той или иной форме. Как она объяснила, ее разум научился сливаться с ее дырочками, и, опустев, Лиза начинала вновь тяготиться своей жизнь. Все ее прошлое возвращалось. Все ее несуществующее будущее. Каждый сантиметр ее больной кожи. Все это вновь оказывалось при ней. Ни наркотики, ни алкоголь не могли позволить Лизе забыть о своем существовании.
Ее тело интересовало меня все меньше, но я знал, стоит отдалить ее или отлучить от своей формы, мое тело вновь взвоет без Лизы. В отличие от нее – мои формы признавали утешением только ее раздрызганную дыру. Пожалуй, в этом существовало какое-то проклятье цыган, выкрик смуглого рта и шумное передвижение часовой башни. Прижавшись к Лизе, я испытывал тягучую и потную скуку, а без нее – одышливую осень. Теперь, когда ее накопления иссякли, я знал, что она никуда не денется – от этого она становилась для меня еще более тягучей и отталкивающей; но во мне и в ней копошились связи другого толка; мое тело, тяготящееся ее, начинало переживать, как только Лиза иссякала из пространства моего слуха. Мне болезненно необходимо было знать, что она ворочается в простынях или чешет подмышки; сам мимолетный факт ее наличия облегчал мучение суставов.
Я заполнял ее по утрам, чтобы после она вновь засыпала, а сам запирался в комнате. Запах моей работы приставал к рукам, а через них – к Лизе. То, чем я занимался, медленно распространялось на весь окружающий мир. Чувство удушья не покидало меня даже на улице, но я никак не мог остановиться. Лизе не нравился Корабль. Может быть, в этом было мое растущее отвращение к Лизе, так как весь я – был каждую секунду на его палубе.
Стоит уточнить.
Настоящий корабль мертвых, который я делаю в своей комнате – не нравится Лизе. Его дурно пахнущие паруса, его днище, его каюты первого класса. Лиза считает, что даже у омерзения должен быть конец, и Корабль – находится за этим концом. В конце концов, говорит она, люди должны искать выход, а не строить корабли. То есть – зарабатывать деньги, искать любовь и по дороге пялить таких, как Лиза. Она говорит, что с нее хватит, и требует человеческих радостей, и чтобы мы пытались спастись. Чтобы я спас ее.
Удушье – это не только болезнь горла, и не болезнь легких. Иногда это форма существования, и иногда – инструмент великой работы. Каждый раз, когда я несу материалы – в черном пакете для мусора – мне чувствуется, что происходит что-то великое. Я иду по улице, размахивая черным пакетом, и уличный мир не подозревает, что внутри. Это черный ящик, последний код мироздания или ящик Пандоры. Я сбрызгиваю в пакет освежитель для воздуха, чтобы тайны черного ящика не открылись посреди улицы.
Лиза смотрит из-за плеча, в самом начале моя работа казалась ей – может быть – немного интересной. Что-то в этом труде для нее сверкало. Пока нос моего корабля таранил ее бухту, ей чудилось, что и палуба моего корабля может ей пригодится. С брезгливым и детским страхом она разглядывала мачту – матовую мачту с красными блестками жира, волосяные канаты и крошечные чешуйки, из которого состоит корпус. Ее ногти теребят мое плечо, что же это такое(?), вот что она хочет узнать. И, конечно, я с гордостью рассказываю ей все то, что составляет мое прошлое – увлеченная германистика в запахе моего пота обволакивает Лизу незнакомыми именами, это Рагнарёк ее рассудка, крушение, истерзанная шлюпка садится на мель. Я говорю, что когда все это случится – корабль, сделанный из ногтей мертвецов, всплывет из царства мертвых, да-да, когда волк съест солнце, когда волк съест луну. Я делаю корабль. Тот самый корабль, который всплывет, когда начнется Рагнарёк, когда шлюпка человечества сядет на мель. Пинцетом я хватаю ноготь большого пальца, зеленоватые разводы грибка, и креплю его к днищу, чтобы грибок казался морской слизью и водорослью. Если зажмуриться, запах мертвых – это запах моря, запах нашего детства, радостного взросления и родительской любви; может быть, ногти – суть наша память, суть наше единственное крепление к прошлому, нерушимая спайка, ломкость позвоночника. Лиза уходит. Глядя в мрачные перепонки окон, глядя в пустоту, в зеркало, я тревожусь своего прошлого, а оно – тревожится внутри меня. Там, в незыблемой границе родительская любовь морским приливом превращается в те дебри тех извращений, которыми стала моя повседневность. Ржавчина и разводы внутренностей убитых насекомых окаймляют окна моей жизни, свет моего сердца направлен – в люфты возлюбленного Наггльфара.
Сквозь балкон я двигаюсь по пожарной лестнице вниз, чтобы вдыхать ночь, и чувствую невидимую карму, которая леской натягивается между мной и Лизой; не так уж и много шагов мы можем себе позволить, и уже эта леска напоминает о себе, уже тиранит горло. Карма – всего лишь визуализация нашей преданности, сумбур нашего страха и врожденного суеверия. Внизу дочь нашей управляющей играет в куклы, чтобы встречать рассвет. Ее детство проходи на задворках кошмара, в доме, где мужчина клеит корабль из человеческих ногтей; ее крепление с жизнью, эта черно-бурая пуповина, существует за счет незнания. Невежество и черная грязь – единственное, что позволяет цивилизации вдыхать воздух. Невежество Лизы расширено, как диафрагма при асфиксии. Вот этот момент – я так далеко спустился от нее, что карма возвращает меня к мыслям о ее теле, о ее теле, о ее детстве, о ее волосах. Девочка показывает мне куклу и спрашивает, мальчик это или девочка. Но во тьме нельзя разобрать. Ногти – не хранят память о поле и гендере. Я говорю ей, что это девочка.
Но она отвечает, что это мальчик.
…
Св. Иоким не знал, что у вдовы *** есть дети. Об этом никогда не заходила речь. Она говорила о мужском плече, о красоте мужских ягодиц, о вкусе черники, о радости рассвета, о замкнутости жизни, но никогда о своей дочери. Но теперь они встретились глазами. Девочке было около семи и голубое платье, полный набор отчаяния, страшнее нельзя выдумать – две маленькие косички, очень тонкие, жидкие, водянистое лицо – и она смотрела то на Иокима, то на свою мать. На обломки своей матери. Иногда шхуна идет ко дну, но эта девочка еще не знала об этом. Никто не рассказывал ей про разрушение, про естественные процессы, о том, что рассвет – это просто красная вспышка, приближающая смерть. Иоким продолжал держать *** за шею и молча смотрел на осиротевшую девочку. Потом он сказал: «мама стала актрисой», вдова *** всегда мечтала стать актрисой. Скорее всего, она выдумала это, как оправдание своей никчемной стареющей коже. Внезапно после сорока все вспоминают, что мечтали быть поэтами, художниками и актерами. Прошлое легко восполнить, замутненная память простит любую ложь. «Это больно?» – спросила девочка, – «стать актрисой…»
«Нет. Я воткнул ей в трахею шило, это не больно», – Иоким протянул девочке шило. Артефакты прошлого имеют мистическую власть над будущим, у Лизы есть кухонный нож, у дочери *** – будет шило. Момент памяти, обсессия и кровь – вот что составляет отправную точку нашего путешествия. Взрослая жизнь стартует там, где заканчивается чей-то хлеб и чьи-то зрелища. «Я тоже буду актрисой?», но Иоким не знал, будет ли она актрисой. Будет ли она искать любовь или… он ничего этого не знал, его знание сводилось к тому, что вдова *** очень хотела умереть, и он дал ей эту возможность. Каждый шаг этой женщины, каждое осторожное рукопожатие с Иокимом, каждая улыбка неровных зубов – все говорило об одном желании, но никогда о своей дочери. Иоким не вдается в подробности. Он – глава Полуночной Охоты30 – и его задача дарить небытие. Он продает пробоины сверлом, сломанные ключицы и вывихи суставов, но никогда – лживые ответы. «Что такое актриса?», и «Она будет дразнить демонов, они будут смотреть на ее игру, и дразнить свои нервы», но «она же спит, она не будет играть!», и «у них очень широкое воображение…»
30. Известно, что «Полуночная Охота» – является зарегистрированной торговой маркой ООО «Расколотый Лев», но ее история началась за несколько столетий до этого. Мистер Бомонд, являющийся так же акционером ООО «Чертово Колесо», всегда тратил огромные деньги на поиск наиболее меланхоличных и упаднических женщин эпохи. Вероятно, Полуночная Охота ставит перед собой целью «производить» Дев Голода так же, как это делает Джекоб Блём – методом поставленного на поток мучительного и атмосферного убийства женщин – особенных женщин – и без того желающих смерти. Члены Полуночной Охоты трактуют свои убийства через термины «эвтаназия», «добровольность», «любовь».
Полуночная Охота имеет свои сезоны, она движется в кривой спроса и предложения, как огромная спираль ДНК, она вбирает в себя тренды, маркетинговые исследования, социальные дискурсы, гендерное неравенство, и становится их перекрестком. Полуночная Охота 21-го века – это когда св. Иоким ищет на улице человека, искренне желающего умереть, и дарит ему смерть. Это эвтаназия, это Санта-Клаус, это чертовски вычурная реальность. Конечно, Охота является только первым звеном этой огромной цепи промышленной смерти; в городе, где тысячи демонов мечтают сочного мертвого мяса, не может быть иначе. Иоким знает, что желающие могут купить человеческое мясо в развес, сырое или приготовленное по заказу, содрать его с кости и все остальное, просто вопрос денег, но деньги – скорее вторичная прибыль, первым рынком – является ритуальная реализация убийцы через акт необходимого жертве убийства. Это как шаманская болезнь, зов необходимости приходит из вороньей сердечной воронки, пронизывает сосуды, контролирует мозг. Поэтическое вдохновение, щелчок, секундное знание. Это всегда любовная связь. Может быть, не очень долгая, не – вербально – откровенная, но время не имеет значение. Иоким не занимается грязным насилием, совращением малолетних или отравлением мефедроном. Он всегда приносит необходимое – себе и другому. Поэтому это – Полуночная Охота. Поиск любви по запаху, воплощение спрятанного в солнечном сплетении города удовольствия, мистерия.
«Я хочу с мамой!» – она топает ножкой. Рваная туфелька. Ее будущее – конечно, антрацитовая чернота. Все эти сиротские приюты, миры детской проституции и ранних разочарований, барбитуратной зависимости, трипы, приходы, откаты, растущие кредитные ставки, вселенные ранних беременностей и домашних абортов, поиск объятий, чумы, безумия, любви, доверчивости и – в конце – раскаленной короны, коронации Полуночной Охотой. Или же – одна из грязных форм смерти от триппера и гепатита, сердечной колики, удушья, ножа сутенера. Но Иокиму все равно. Сегодня он здесь только для ***, его сердце моногамно, его любовь – крошечная дырка от шила, его огромное девственное тело даже не наполнило собой вдову *** и никак не опорочило его.
Он поднимает убитую на руки. Невеста с тонким ручейком черной артериальной крови. «А я?», но Иоким уже не отвечает. Уже нет необходимости, а потом – синеголовый поезд рвет тишину ревом своего движения.
Нежность к мертвым
Красота – это все укутывающая печаль. Первое, что я вспоминаю, когда начинаю думать о красоте – это отлогий склон, серпантин крутого берега, шуршащая от прикосновений сухая трава. Может быть, звезды. Холодный изгрызенный свет. Он протягивает свою руку, чтобы взять мою ладонь, а я все так же часто думаю о том изгрызенном свете какой-то мутной звезды. Наши романтические переживания начались спонтанно, в общем, они были быстротечным спасением – или, попыткой инсценировать спасение – и теперь мы гуляли, как малолетние любовники. Лизбет, Лизхен, Елизавета, – она всегда говорила мне, что чудовищ не существует; уж не знаю, откуда я узнала о них, но моей матери постоянно приходилось повторять: Лизбет, Лизхен, Елизавета, чудовищ не существует. Мой разум отказывался принимать это. Я отказывалась верить, что их нет, что человеческое пространство – изведанное и все темные пятна давно высвечены. И поэтому я поехала в город. Мне был нужен повод, и поэтому – я решила стать актрисой. Наверное, потому что все девочки должны хотеть – быть актрисами, или потому, что я больше не могла этого слышать: Лизбет, Лизхен, Елизавета, чудовищ не существует.
Пока мы гуляем с Иокимом, я рассказываю ему, как приехала в город. Ничего необычного. Тысячи приезжают в город каждый день. Вырываются из отцовских объятий, рвут отношения с матерями, ищут перспектив и жаждут наживы. На кастинг нас согнали в большой зал. Это – арендованный физкультурный зал местной школы. В углу маты синего света, желтая штукатурка, на мне короткое платье, нижнего белья нет. Пахнет потом и усталостью. Я смотрю в окна – узкие, задрапированные решетками – бойницы под потолком. Футбольные мячи оставили на решетках вмятины, а я стою, и другие девушки стоят в ряд. Ни у кого нет нижнего белья, мы знаем, как становятся актрисами. Но когда появился мужчина, я почувствовала, как у меня внутри что-то шевелится. Не потому, что я перестала быть готовой на все и не потому, что я перестала знать – как это делается – а от какого-то другого страха. То есть я стояла в физкультурном зале, и именно здесь произойдет глобальная перемена. Никакая обратная перемотка не поможет, а где-то далеко гудел поезд. И мужчина задавал нам разные вопросы, я слушала, что отвечают другие. Пока никаких намеков или открытых предложений, он спрашивал о театре, о вопросе постановки кадра, и другие давали какие-то ответы, то есть – они, кажется, пришли сюда с какими-то другими установками. Пришла моя очередь. Я вышла вперед, провинциальные серьги в уши и соски просвечивают сквозь платье, на подмышках от волнения образовались белые катышки. Жила на шее билась сильно-сильно. И меня спросили, как меня зовут. Я ответила, что Лизхен, и поняла, что меня не возьмут. Это было ясно, как только я сделала этот шаг вперед. А теперь – очевидно. Мужчина кивнул, он ничего не записывал, хотя держал в руках блокнот, он показал мне, что мои простенькие ответы он способен запомнить, не конспектируя. Он спросил, почему я решила, что могу быть актрисой. И почему я лучше, чем другие. Терять было нечего, совсем некуда отступать, а девчонки рассказывали, как становятся актрисами, а еще мне было всего восемнадцать и мне не хотелось возвращаться домой. Поэтому я сделала еще один шаг вперед, и все на меня смотрели, а потом попросила мужчину дать мне руку, и (он оказался женат) он протянул ее мне. Самые смелые попадают в рай, дорогу осилит идущий, я взяла его руку и засунула себе под платье. Вначале мужчина никак не реагировал, а потом инстинктивно потрогал мой цветочек, даже не потрогал, а похлопал, как младенца по заднице хлопают, и сказал мне «я вас понял, развернитесь», а когда я развернулась, он брезгливо вытер пальцы о мое платье и приказал уйти. Я уходила в полной тишине. Никто даже не хохотал. А потом я услышала – уже в самом конце – как другая девушка отвечает на вопросы мужчины. Жизнь продолжалась.
Иоким ведет меня вдоль железной дороги, где ночь раскачивает ивы. Он продолжает активно слушать о моей жизни, но сам почти ничего не рассказывает о себе. Наш роман – то испорченное экологией имаго, которое никогда не станет бабочкой. Настоящая любовь, настоящая дружба и нежность, омраченная тем, что у меня есть другие любовники и воспоминания об угасающей красоте. А еще я внезапно говорю ему, что у меня есть ребенок. То есть оправдываюсь за испорченную фигуру, за растяжки, за обвисшую грудь. Ни Павел, ни мои редкие посетители не обращают на это внимание, их форма жизни требует единственного логического завершения – эякуляции; в этом им не может помешать ни обвисшая грудь, ни испорченная фигура. Иоким спрашивает, как его зовут, этого ребенка, и я отвечаю ему какое-то чуждое мне имя. Его воспитывает моя мать. Наверное, она говорит ему, что чудовищ не существует. Может быть, кроме Лизбет, Лизхен, Елизаветы, которая забыла отлогий берег родового гнезда. Я говорю, что это случайный ребенок, и я его не люблю. Нет, даже не так. Я ничего не чувствую. Ни любви, ни отсутствия любви. Ничего к этому не чувствую. А его отец – хозяин «Погасшего неба», куда я устроилась семь лет назад. Я танцевала, в основном канкан, и мало какие излишества происходили в моей жизни. В общем, мне нравилось. Я даже спала с ним, потому что мне нравилось. Иногда в темноте скапливалось так много нерастраченной женственности, что я просто давала ему. И мы оба не превращали это в проституцию или грязь. Я – из отторжения грязи и проституции; а он, потому что имел крохотный член, такие размеры не располагают к грязи. «Небо» досталось ему от отца; вначале это был просто бар, а потом там появились и девочки. Думаю, это естественный ход вещей, так сказать, эволюция, но точно не развоплощение нравственности.
Иоким показывает мне на рельсы, бурые кровоподтеки указывают на самоубийство. Так мы становимся немыми свидетелями чьего-то завершения, а потом продолжаем прогулку. Я рассказываю о своих любовниках. Они многое обещали мне, кажется, это в самой их природе – растрачивать себя в обещаниях; в самой их генной задаче – бесконечное самоутешение и мужская воплощённость в бестелесных обещаниях… каждый раз я шла вслед за этим, каждый раз новую форму обещаний принимая за правду, а потом умер отец. Он умер, зная, что я сбежала из дома, чтобы быть легкомысленной шлюхой, мечтающей о счастье. И я думаю, умирая, он полагал, что я не приеду на похороны, и я приехала, чтобы не быть, как бестелесное обещание. Обветшалая женщина, как одержимый особняк, как разрушенная статуя, я вернулась домой, и сидела на кухне с матерью. Я сказала ей, что она ошиблась. Чудовища существуют. Они в феномене современности – в способности забывать вчерашний день. Я рассказала ей, что происходит в большом мире, чем дышит ночной город, сколько стоят те или иные услуги. Чудовища существуют, мама, и они всегда в предельной близости к тебе и твоему внуку. А потом я поднялась к этому чуждому ребенку, очень милому парню, герою-любовнику будущего, бестелесному обещанию завтрашнего дня, и гладила его по голове и разглядывала его без всяких эмоций. Очень красивый мальчик. А мать спросила меня, хочу ли я взять себе половину праха, то есть исполнить дочерний долг, и развеять его сама, в особом месте, в каком-то важном для меня месте. Я не знала, есть ли такое место. Существует ли вообще у меня – какое-то место. Павел был моей единственной постоянностью, как минимум, моим постоянным любовником и источником денег. Наверное, он напомнил бы меня водой перед смертью. Но, конечно, ему не был нужен ни мой сын, ни прах моего папаши. Он – моя бытовая любовь, моя точка опоры, наша постель – секундное утверждение реальности. Я сказала, что хотела бы взять прах, и мы отсыпали часть – не думаю, что половину – в банку из-под майонеза. Я взяла ровно столько, сколько вместилось в банку. Не столько, сколько хотелось взять и не столько, сколько духовно причиталось мне. От отца мне досталось ни больше, и ни меньше, но ровно сколько влезло.
Я подбиваю Иокима к жалости. Я бы отдалась ему, чтобы согреться и очередной раз все нарушить. Но он стоически гуляет меня в каком-то одному ему известном удовольствии прогулки, в парном безделии мы пересекли железнодорожные пути, и спускаемся по холму к городу, чтобы затем начать двигаться по его улицам.
…
Первым делом я осматриваю ее ногти. Ногти вдовы ***. Ее тело лежит на столе, череп укутан марлей, красные отпечатки на белоснежном хитоне, плащаница. Вторым делом устранение кутикул. Рука приподнимается вслед за щипцами, потом резко падает на стол. На кожном покрове останутся гематомы. Затем я аккуратно вырезаю ногти из ложка, я полирую кровавую бахрому.
Тела, которые попадают в мои руки, избавлены от домогательств похоронных агентств и скорби родственников. Их привозят на старую швейную фабрику, чтобы подарить останкам новое будущее. Иногда – вечность. Чаще – несколько минут в свете софитов театральных подмостков. Швейная фабрика всегда удовлетворяла изысканные потребности жителей города. В древности, в минуты промышленной революции, именно здесь шили одежду нового режима; после – сектанты судьбоносных нитей назначили ткацкий станок объектом своего поклонения; сейчас – казематы принадлежат ООО «Расколотый Лев». Думаю, все дело в краеугольной плоти. То есть – в той жертве, которая была уложена в котлован гекатомбы во время строительства. Называют разные цифры и имена, но все же «Расколотый Лев» любит называть своей покровительницей святую Агнессу. Заживо сожженная двенадцатилетняя девственница легла в основу ткацкой фабрики, стала ее фундаментом. Это оккультное варварство и сейчас чувствуется в серых застенках «Льва», собственная оккультная история которого – еще более варварская, чем смерть святой Агнессы. Лиза отказывается понимать катастрофическую глубину этого места, запущенность духовных процессов этих комнат. Моей работы. Нагльфар, Великое Строительство, служит неким отторжением, противопоставлением происходящего во «Льве».
Верхние залы драпированы под викторианские бордели. Огромные залы производства, вентиляционные системы, блоки очистки и обожествленный ткацкий станок – все скрылось под новым временем, под новой тягой к ретроградству – к восстановленной и напичканной новыми смыслами викторианской системе увеселения. Как известно, старинные бордели предлагали определенную парадигму мышления и жизненного убранства. Дети, рожденные проститутками, вырастали с точно простроенной профориентированностью. Их девственность выставляли на аукцион – в двенадцать или тринадцать лет – и к этому у девочек не существовало какого-либо отторжения. Думаю, коитус был не только приятнее, но и много приличнее во времена святой Агнессы. Никакие средства массовой информации и никакие лобби не закладывали в мужские черепа об эстетических характеристиках женщины. Любой товар мог найти своего покупателя, обоюдная доступность и здоровая конкуренция проституток не только разрушала моральные установки, но и приводила к добропорядочным союзам девушки и ее покупателя. Я говорю о замужестве, или – постоянности, еженочности их контакта в стенах борделя. О деторождении. О радостном детстве девочки, уготованной в проституцию. Никакой помраченности мыслью или Богом. Сейчас же «Расколотый Лев» существует в других рамках и движется к совершенному другому. Необходимость в УТП (слушай, как УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) принудило его учредителей выдвинуть на рынок новую схему.
Мертвые тела, медицински обработанные. Стерильные некродырки.
Отсутствие паразитов в теле.
Анонимные или деанонимированные мертвецы мужского и женского пола.
Я отвечаю за чистоту, за уничтожение ороговевшей ткани, 21-ый век блестит неоновыми вывесками здравоохранения, селфбилдинга, чистоты, непорочности – и новыми чудесными великолепиями. Женские тела задрапированы в дорогущие платья ручной работы, необходимые клиенту фрагменты материи уничтожены, оставляя голыми ребра или же – после желаемого удаления костей – темные лакуны. Кожа приведена к белоснежному совершенству. Волосы нужного цвета и фасона, жесткие или мягкие на ощупь, короткие или длинные. Модификация занимает менее двух часов, после подачи заявки через мобильное приложение – тело будет подогнано под самые изящные мужские фантазии моей легкой рукой. Оплата наличными или карточкой; мы принимаем транзакции любого крупного банка без процентов; до или после посещения «Льва»; наши девочки не только приучены умалчивать о чаевых, они – Физически – не могут и не хотят принимать их. Японки в кимоно эпохи Эдо, француженки времен буржуазной революции, наложницы хана Батыя, подруги Калигулы и Кромвеля, белошвейки, вакханки, поэтессы, стюардессы, медсестры, работницы офисов, транссексуальны, гермафродиты, чудовищные гомункулы и доппельгангеры, альрауны, инсталляции Шабаша, Бостонского Чаепития, Взятия Бастилии etc.
Главное не задумываться – может ли это место существовать или находиться эпизодом в чьей-то чудовищной повести, на картине Босха. Существует ли оно или только – вьет гнездо в черепе некрофила. «Расколотый Лев» должен жить оазисом и фантазией, мороком. Его предложения слишком… гипотетичны, чтобы – отторгающие его великолепие – могли поверить в факт существования первого, официально имеющего юридическое лицо – борделя для некрофилов.
«Лев» сам находит тебя. Предлагая тебе работу или развлечения, он анализирует твои запросы в поисковиках, собирает информацию о просмотренных тобой фильмах и прочитанных книгах. Его инструменты позволяют без погрешности выйти на необходимого человека и выдвинуть – в единственно необходимой формулировке – свое предложение. Вся необходимая информация уже разлита в воздухе, нужно просто избавиться от шума. После легализации эвтаназии, «Расколотый Лев» выступает на рынке с комплексными услугами последней инъекции и погребения. Это благотворительная эвтаназия с посмертной отработкой задолженности, безболезненный способ сказать «прощай!», нет нужды отрабатывать недели с психологом перед подписанием разрешения, «Лев» понимает необходимость преждевременного ухода, невозможность решить первую влюбленность или опыт изнасилования иным, менее радикальным, способом; его ласковая рука утешения – приходит до наступления возраста согласия или уголовной ответственности. Только эпоха чистого ума могла изобразить его – вырезать на своей плоти – огромное здание по превращению человеческой жизни в нежизнь. Ссоры с родителями, первый мальчик, внеплановая беременность, частные кредиты, адюльтеры, превратности судьбы – повод для самоубийства нашел элегантный метод решения.
Это здание нависает над городом, как жертвенный идол. Горят глаза его окон. Может, он производит столь угнетающее впечатление только на тех, кто посвящен в дела его внутренностей. Я смотрю на него – как на раковую опухоль, вырезанную из контекста реальности. Чудовище существует. Четыре этажа и высокая башня экс-часовни – так называемый серпантин Рапунцель, для тех, кто любит секс стоя, прижав мертвую женщину к бойнице на высоте 30 метров над людными улицами.
«Лев» пришел ко мне через год после того, как Лиза впервые ушла. Болезненный нарыв, мне было больно глотать от гнойной ангины, внутри меня уже вращались какие-то мысли о Великой Работе, но я пока даже не мог представить ее конкретных очертаний. С Лизой мы познакомились в парке, возле цветущей воды. Пахло этим первым осенним гниением. Настоящая любовь всегда начинается с ебли в первую встречу. Лиза смотрела, как вода движется в искусственном пруду, точнее – как тени движутся по воде. На ее шее были следы старых засосов, но в остальном она выглядела трепетно, утраченно. Она нежно держалась за поручни решетки, как бы кокетничая с темнотой. Она спросила меня, как спрашивают в кино, кто я такой. Это было очень постановочное знакомство. И я встал рядом с ней, чтобы рассказать о себе. То есть – все с самого начала, ведь у нас была целая ночь впереди, и нам было нечего терять. О том, как первая девочка повалила меня на постель, и сказала, чтобы я разделся, о том, как она начала целовать меня в шею и спускаться ниже-ниже, и что потом она взяла в рот, но не разрядила мой член, а приказала встать раком, и стала ласкать мой копчик, а потом облизывать задницу, о том, что я до сих пор помню это чувство резко сокращающегося сфинктера под ее языком… о том мерзостном чувстве дьявольской инициации, о том посвящении в ночь, которое тогда произошло, о той необратимой перемене. Все испортилось, сказал я Лизе, и Лиза ответила, что она потеряла любовь. Оттуда и засосы – пыталась забыться. Чем она занимается? Танцами. Откровенными танцами, ей это необходимо – чтобы мужчины смотрели на нее. Она сказала, что играет в прятки со старостью. Я рассказал ей, что изучаю дохристианские ереси, что ношу в себе бремя декадентского упадка, она начала хохотать, что я ничего не понимаю в жизни, и я согласился. Ей понравилось, что я подрабатываю в морге, чтобы спрятать свое влечение ко всему девиантному, модное увлечение судорогами и гибелью. Так мы стали любовниками, а потом она ушла. Это тоже была игра в прятки со старостью. Ничто не должно в жизни Лизы быть постоянным, наверное, именно поэтому она не хотела получать образование – чтобы ничто не тянуло ее ко дну ясности; у нее не было предпочтений – по крайней мере, серьезных – и более глубоких, чем весенняя любовь к фильмам с Клинтом Иствудом.
В темноте Лиза показала мне, что римминг – не является дорогой в ад, и не является провинцией ада. Римминг – это просто римминг. После него так же могут происходить поцелуи и разговоры о вечном. О темноте за окном. О моем дипломе о древнегерманском царстве смерти. Помню, я рассказал ей – после того анальной пробки, которую она вставила в меня, и долго смеялась над моими реакциями – что Нагльфар – символ разорванных душевных ценностей. Она спросила почему. Потому что германцы всегда – ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ – обрезали ногти своим падшим, в этом была последняя честь. Мертвый должен быть очищен от грязи под своими ногтями. А Нагльфар – корабль, собранных из ногтей мертвецов – является символом эпохи, когда за мертвыми перестанут ухаживать, когда их ногтей хватит – хватит на целый драккар. Она так хохотала над этим! Ее представление о сексе и смерти были будничны и даже унылы. Она признавала бесконечное разнообразие – и практиковала его – человеческой плоти и человеческих изобретений. На каком-то витке ее практик – в ней побывали все способные доставить удовольствия предметы. В этом – по ее словам – было отторжение мира мещанских и буржуазных ценностей… конечно, она не знала до конца, что означают эти самые мещанские и буржуазные ценности. Для нее в сексе и резиновых членах было оружие против всего, что она видела вокруг. Оружие против красивых мужчин и женщин, любовных романов, свадебных платьев, красивых историй, церкви, матери и сына. Кажется, всю свою жизнь она положила на то, что разомкнуть собственную связь с собственным материнством. Факт о том, что Лизу кто-то породил и сама Лиза породила кого-то – заземлял ее самоидентификацию свободной и внеконтекстной женщины. Так же ее стал заземлять я, и она ушла, растворившись, оставив мне лишь утраченное время, утраченную жизнь, язву на месте сердца, язву на том месте, где выросла моя гордость за спасение ее порочного существования. Весь я – во время наших отношений – стал этой олицетворенной гордостью; святой Агнессой; гекатомбой во имя Лизы.
Полуночная охота
С каждой минутой нашего романа – я все больше чувствую себя разрушенной. Каждое мое достоинство, пропущенное сквозь Иокима, обращается в раны и шум. Мои будничные признания тонут в его грудной клетке. Корабль по имена Лиза идет ко дну. Ветхая трехпалубная потаскуха. Он всегда лоялен к моим излияниям, его роскошное финансовое существование тревожит меня – и я замечаю, что моя тяга к нему во многом тяга – к его роскошному финансовому положению. Я вспоминаю сквозь него театральных кастинг и то, что, глядя на того мужчину, я так же испытывала эта будоражащее влечение, и не могла распознать в этом влечении, разделить это влечение – на влечение к плоти и влечение к шансу.
Когда я вернулась к Павлу, казалось, я нашла гавань. И теперь мне ясно отторжение к этой гавани – ее доски, ее пальцы, знали о моем корабле все, любое движение моих скважин было известно смотрителю доков. Иоким же не погружается в проблемы моего ума, и поэтому я остаюсь ему перманентно неизвестной, но все же он влюблен в меня какой-то странной любовью импотента. Я спрашиваю его, когда мы сидим на берегу, кем он работает. И он отвечает, что является бренд-менеджером «Расколотого Льва», помогает людям узнать о том, что «Расколотый Лев» существует. Это донесение – называется Ночная Охота. Он помогает актрисам попасть в театр. И это донесение – всегда связано с любовным переживанием самого Иокима. Он принимает тех, кто находит отклик в его сердце. И я снова и снова вспоминаю, как мой сын спит, как я глажу его по голове, и понимаю, что слова Иокима не достигают меня, что меня уже ничего не достигает… Павел делает корабль из человеческих ногтей, Иоким крутит романы с актрисами, все это – по ту сторону ада; это место, где властвует ночь, и корабль моих ожиданий лишь движется – от одной пристани этой ночи к другой пристани. Моя ладонь – на черепе моего сына. Даже слова – все они сотканы из темноты. Я отгорожена от всего человечного. Иоким гладит меня по щеке, и я глажу по его щеке и чувствую щетину. Он просит рассказать мою первую историю любви, и я рассказываю, что мне было шестнадцать, когда я влюбилась, и он продавал пиво. А потом я с кем-то переспала, и он узнал, он ударил меня по лицу, и отказался трахать. Вот и все, что я помню. Иоким спрашивает, зачем я с кем-то переспала. И я отвечаю – просто так. В школе учили химии и физике, но никогда сексу, а наши девочки уже жили половой жизнью – не только успешные девочки, но и почти все другие; даже самых страшных щупали в раздевалке, – а я нет. Мама говорила, что я встречу свою любовь, что чудовищ не существует, что рассвет – всегда наступает. Но я знала, что мама изменяет отцу, потому что у того начались проблемы с простатой, и поэтому я знала, что чудовища существует; моя мать – была одной из их племени; она почти не скрывая спала с другом семьи, и, я думаю, отец знал об этом. А когда он умер, она отсыпала его прах в баночку из-под майонеза. Я рассыпала этот прах в парке – где мы познакомились с Павлом. Этот парк, эта спящая вода в пруду, здесь для меня прошли самые значимые минуты жизни, самого горького одиночества. Я не дружила с отцом, он был весь в своей страсти к матери – в неразделенной семейной любви. И для него не наступил рассвет. А чудовища существовали. Поэтому я переспала в первый раз. Я отторгала мерзкое лицемерное солнце, этот ботексный мир, где домохозяйка рожает детей и сцеживает в их младенческий желудок свое ядовитое блядское молоко. Я сделала это из удушья. Из-за темноты. Поэтому я вернулась к Павлу. Он самое отвратительное – что может случиться с женщиной. Санитар морга, ворующий у мертвых ногти, чтобы строить корабль. Вернулась, потому что… как молотком в стекло человеческой лицемерной ценности, в сплетении этих ублюдочных вен безэмоциальной любви, леворукого перепихона, воскресного минета и церковной педофилии. Я ненавижу Павла, – говорю я, и Иоким целует меня глубоко-глубоко.
А потом, когда он отступает, я спрашиваю его, многих ли он так целовал? И он говорит, что нет. Он помнит каждую. Любовь – это его работа, а он лучший работник Ночной Охоты. Я говорю, что не понимаю его. Я прошу его разъяснить. Он говорит, что об этом нельзя говорить. Но я говорю, что люблю его, как много раз говорила другим, и он рассказывает…
Башня медвежьих костей
Иоким говорит, что «Расколотый Лев» нашел его, вырвал из темного задверья. Из страшной иронии его жизни.
…там, где темная весна кружит головы; там, где в деревни голод и крысы, там – где в сердца происходят метели злобы и семейного инцеста, Иоким искал свою настоящую любовь. Рапунцель. Так звали женщину, которую он любил. Ту Рапунцель, которая заточена в башне, волосы ее – золотая пряжа. Иоким говорит, что была весна, когда он отправился на ее поиски, и была уже осень – третья по счету – когда он прибыл к башне. Его голова кружилась от ожидания, что-то хрустело в грудной клетке. О красоте Рапунцель говорили так много, что Иоким уже перестал себе представлять ее лицо… рыцарь-девственник на вороном коне в поисках предначертанной любви. Башня Рапунцель была оплетена сухим лесом, или даже – огромным кладбище, куда со всей Европы приходили медведи, чтобы умереть. Нагромождения их костей, их старых остовов, осоки, повилики, цветов аконита и сухого дерна – стали последним испытанием Иокима. Он преодолевал заразный воздух и зрелища медвежьей смерти. Тысячи умерших в одном месте. Естественная смерть, болезни, гангрена, перебитые выстрелами охотников костные спайки. И башня Рапунцель. Наверное, они приходили умереть, поклонившись ее красоте.
Наверное, так.
Иоким у подножия, черный камень, солнце в зените, осенний воздух, и волосы Рапунцель спущены вниз. Белые, как смерть. Он раздевается, избавляет свое тело от доспехов, чтобы не переломить возлюбленной шею, взбираясь по волосам. Он обнажен, его волосатая грудь тяжело вздыхает от предвкушения. Он хватается за волосы, и слышит – как хрустит шея Рапунцель – там, наверху-наверху. Иоким продолжает подниматься. Волосы пахнут мертвой медвежьей шерстью, солнце садится, в полной осенней темноте, Иоким забирается в башню. Вот золотом расшитое платье Рапунцель. Вот платиновые кольца на пальцах. Вот венец с кровавым рубином, вот начало ее волос – в седом обезображенном черепе. Вот бледное движение мухи в глазнице. Вот Иоким гладит освежеванные скулы, вот красота – саван печали. Вот он берет руку Рапунцель в свои руки, и ее рука ломается в его сильной ладони. Вот – сотни лет историй о ее запредельной красоте – лежат перед Иокимом скелетом женщины, умершей от старости и ожидания. Старости и ожидания.
Она билась взаперти и ждала любви.
Она испражнялась в углу этой крохотной комнаты и ждала любви.
Она болела на большой постели и ждала брачной ночи.
Она поседела и ждала любви.
Она умерла в немощи, грязи, запустенье, в одиночестве, в темноте, отравленной трупным ядом, отравленная ожиданием.
Иоким освобождает ее от тяжести платья, и отрезает волосы. Он крошит ее кости и превращает их в прах, он освобождает ее – умершую от ожидания – от этого заточения. От собственного тела, от женского отчаяния, от башни, от мифа о красоте, от фантазии о замужестве, от идеалов рыцарства, от часов судорожной и безумной мастурбации на образ своего гипотетического спасителя. Иоким впервые встает на путь Полуночной Охоты – реализации женского желания перманентной смерти. Он держит на ладони шейные позвонки Рапунцель, а затем сжимает их в кулаке, превращая в песок. Отламывает кость от ее черепа – и в песок. Ребра – в песок. И стопы. И кости бедра. Он превращает Рапунцель в седой ветер праха. В быстротечность времени, в саван печали, воплощенную красоту.
Так Иоким становится ночной охотой. И это он рассказывает Лизе, а затем горько целует ее губы. Его мужественность остановила физическую воплощенность в минуту, когда он увидел Рапунцель. Как седеют от страха, он – стал импотентом. Вот что он говорит Лизе. И вот что такое Полуночная Охота. Это – эвтаназия, Лизхен, Лизбет, Елизавета. Этот поцелуй – последняя смертельная инъекция. Это освобождение тебя из мира чудовищ и первобытной похоти.
Там, завтра, чудовищ не существует, и наступает рассвет.
Я тебе обещаю, – вот что он говорит.
И она ему верит.
Ласковый Нагльфар
Иоким вносит ее и кладет на стол. Сегодня она выступает на сцене «Расколотого Льва», а ее ногти – становятся частью Нагльфара, отмщения мертвых. Их потусторонней нежностью. Я смотрю в ее погасшее тело, и отдаю последние почести ее ногтям; даже больше – я отпиливаю ее кисть, любимую кисть ее правой руки, и она станет носом царственного Нагльфара.
Сегодня я целую ее в последний раз. Забываю, как много инородных предметов побывало в ее теле. Чувствую, что теперь она ушла от меня навсегда. Даже больше, чем навсегда. Намного больше.
Лицо Лизы выглядит по-настоящему счастливой.
Я целую линию судьбы ее правой ладони. Вычищаю грязь из-под ногтей. Клянусь любить ее вечно. Закрываю ее глаза.
6. Abschied
Мне нужно поговорить с тобой, он выпил мою душу. Он выпил, он многое выпил, я все еще не могу – из нашего аморфного отвращения – выползти и выкачать весь яд. Я перестал верить в жизнь. В сам ее факт.
.- герр Маннелиг
Завершение их истории, как и ее начало, кажутся абсолютно поверхностными. Проходными, мимолетными; при всей этой внутренней жестокости, история остается несколько шире простой воображаемой любви, она – обезображена последствиями. Их знакомство свершилось в самом обычном месте; таком, где они оба могли оказаться и оба оказались – только здесь два этих типажа могли столкнуться и, конечно, сталкиваются, что не означает невозможности столкновения на этих квадратов каких-то других типажей, то есть ничего из ряда вон не происходит, не звенит колокол, ничего, вообще ничего не происходит, кроме их знакомства, и это знакомство не обрамлено никакими событиями, как и повелось в дальнейшем: события их истории не маркированы, никак не могут даже казаться знаменательными или символичными, вокруг них ничего не произошло и больше не произойдет, кроме самой этой встречи – на разных концах помещения. Пигмалион сидел за столом, он появлялся здесь часто, как бы ожидая знакомства с кем-либо; его одиночество было уже достаточно долгим, чтобы любую встречу посчитать значительной. Герр Маннелиг оказался здесь позже – волей случая – и пусть он предпочитал экспериментировать, а не ждать, не слишком многие были согласны на такие эксперименты, и герра все еще нельзя была в полной мере назвать проституткой; и в силу неизбыточности опыта, он все еще считал свои попытки и эксперименты чем-то значительным и, как бы, не растрачивался по пустякам. Они шептали друг другу на ухо «я будто протащен по кругу, я уже здесь, и мы оказались рядом, я уже распутал свои самообманы и происходящее – всерьез», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», – то есть не говорили друг другу ничего серьезного, сколько бы не повторяли.
Герр Маннелиг входит в комнату начищенными ботинками, хорошо и гладко начищенными; его беды – очень взрослые, они серьезны, и этим Маннелиг напыщен, своим оторванным от души страданием, и страданием делает оторванность от души. На нем серый пиджак, и им он хочет прикрыть тело обычного клошара. Вот он вспоминает двор, на котором играл в детстве – и тут же хочет отрешиться от детства – и игры его были такими некрасивыми, такими приземленными, и в приземленной мерзости Маннелиг предсказал себе одинокое и очень серьезное будущее. У его рубашки дорогие манжеты и дорогие запонки, с унизительной четкостью он – определяя Пигмалиона за своего – рассказывает, что его отношения с каким-то молодым человеком, кажется, исчерпывают себя, и пусть Маннелиг сделал все, чтобы это – только казалось – они, кажется, действительно уже на нуле, и, не глядя на эту неудачу, Маннелиг готов отправиться куда-то дальше. Его умение отпускать опыт делает его лицо – моложавым, привлекательным, даже красивым, но лишает чувственности; почему-то страшно расстегнуть его красивый пиджак, снять красивую рубашку, страшно от этих начищенных ботинок, страшно от стрелок на брюках, особенно страшно от запонок, страшно видеть, что Маннелиг полностью сформирован красивым телом очень холодного оттенка, его позвоночник красиво и холодно просвечивает рельефно и мускульно на спине; есть в его движениях вычурная и воспитанная четкость. Пигмалион, признанный за своего, взорван признанием, его манера говорить живая, очень лживая, его тело очень жестоко по отношению к самому себе – ни разу оно даже не пыталось поверить словам Маннелига о его красоте, а если бы поверило, то – вскоре – оказалось бы вновь растоптанным. Оно было таким – тело – что, наверное, его можно было бы любить какой-либо гештальтностью и тайной черного ящика или украшать поэзией, по нему можно было сходить с ума, но нельзя – выстраивать крепкие отношенческие отношения; для него –любая пограничность, оно начинает работать и возбуждать в сумраке, любая контрастность указывает на его несовершенство. Но речь этого тела стекает вниз, она слюняво бурлит, но душа Пигмалиона молчит. Она размышляет о детстве, о странной забаве с мертвой собакой, рассказ о которой – становится пикантным рыболовным крючком, но никогда – настоящей вехой его биографии. При всех предупреждающих знаках и при всех предварительных объяснениях – Пигмалион всегда остается обвиненным в сумасшествии, хотя вначале – все они, все они, « Ne me quitte pas» – видят это интригующей красотой. Руки – тонкие, как стекло – как бы красивые, но на самом деле нет. Разум его – очень выстроенный, очень ажурный – легко изучается в три щелчка. Разум же герра Маннелига легко нащупывает кнопки, три щелчка свершаются в три недели, и после – заверения о чем-то большом – герр уже двигается дальше, в разгадке этого ребуса найдя только разочарование. Их различие очевидно: опыт одного могилен, для другого – является трамплином, и дальше следует прыжок в пустоту.
Они гуляют по улицам. Они идут, куда им идется, но на самом деле Маннелиг давно распланировал дорогу. Они свернут вот здесь, и два часа отсидят тут. Они двинутся дальше, они будут говорить хорошо подобранными фразами, их отношения будут стремительно развиваться, любое торможение является театральной паузой или поводом для ссоры. Пигмалион в силу ущербности всегда просит прощения; его богатый и бесполезный внутренний мир завернут в дешевую одежду, которую снимают богатые и бесплодные руки Маннелига. В этом великая благодарность. Пигмалион всегда обижен, и когда они сворачивают направо, Маннелиг просит прощения, пусть, на самом деле, в этот момент принимает извинения Пигмалиона; при всех поворотах один остается герром, а другой просто именем. Их тела в неравной позиции, им холодно в объятьях друг друга, они уже не плачут от одиночества, оно имитируют счастья, но на самом деле их любовь не совсем воображаемая.
Они возвращаются в место своего знакомства с какой-то сентиментальной целью. Пигмалион, чтобы показать миру своего дорогого возлюбленного; чтобы этим показать, как низко он поднялся, чтобы отыскать его; в его глазах долгое и востребованное ожидание. Маннелиг возвращается из любви к синхронности и порядку, к правильному порядку слов в предложении. Это чувство вины Пигмалиона раздражает его, но в какой-то степени подстегивает. Оно дает четкое понимание, что у Маннелига большое будущее – с кем-то другим. Эта любовь – которая плотно сидит в каждом из них – кажется Маннелигу реабилитационной работой; для Пигмалиона – завершением пути. Это завершение не может радовать его, оно каждое утро пульсирует желанием разорвать эти отношения, но каждый раз заморожено – внедренным в него Маннелигом материалистичным мироощущением. Всякое движение рук Пигмалиона остановлено; его пальцы удерживают чашку кофе во время разговора, который щелкает своими шарнирами, перекатывает мускулы и, в общем, сводится к обсуждению превосходства этих двоих над всеми остальными, более счастливыми, более реализованными и более влюбленными. По ночам они обмениваются ядом, предпочитая поцелуи и легкий петтинг. Их союз не может быть до конца плодотворным, они не могут стать одним целым, но Пигмалион знает, что в его жизни больше ничего не случится: эти весенние попытки слияния его конец, его последнее утешение. Маннелиг знает, что будет скучать по этой сдержанности, о которой – пройдет несколько лет – он будет вспоминать ностальгически, но все же для него она создана исключительно ради ностальгии, происходит в настоящем только, чтобы позже существовать в прошлом.
Маннелиг ревнует прошлое своего любовника. Пигмалион не знает прошлого своего любовника. Точнее – он знает о фактах, но сомневается в их достоверности, ведь факты противоречат тому, каким Маннелига видит Пигмалион. Они обмениваются опытом в простой комнате, лишенной личностного отпечатка, в выскобленном пространстве, совсем не похожем на то, к чему привык Пигмалион. В этом месте отсутствуют запахи. В них нет воспоминания и нет устремления в будущее. Но они говорят о планах, о переменах, о крупном успехе. Этот разговор – ритмический лейтмотив, он гасит всякое дыхание Пигмалиона, он давно погасил дыхание Маннелига. Им бы стоило обращаться друг к другу на Вы, их отношения – такая же сопричастность, как сопричастен соглядатай совершенному преступлению.
Герр Маннелиг уходит на работу и возвращается с нее. Он обслуживает микроскопические нужды своего любовника; он внутренне восхищен и одновременно в отвращении к строению его души. Пигмалион прозябает в квартире и ожидает возвращения хозяина, а когда хозяин возвращается, становится господином их диалогов, позволяет утолять свои микроскопические нужды, принуждает Маннелига к соитию и пустой болтовне. Утром он снова остается один. Теперь, когда его прежняя жизнь уничтожена, когда великий и авторитетный вождь установил новое знамя, Пигмалиону некуда торопиться. Творение его любви завершено и выражено гордым лицом Маннелига, его старательном стремлением к светлому будущему; Пигмалион больше ничем не занят, его путь завершен, его творческие потенциалы и стеклянные пальцы растворены в любовнике. Он подходит к шкафу, чтобы рассмотреть единственную рубашку, единственный брюки, единственный пиджак, единственные запонки, единственные ботинки своего возлюбленного, он чувствует в себе жестокую и честную любовь к нему, он чувствует то, что называется нежностью, но никак не может выразить их; ему не хватает сил, чтобы привести эти брюки, этот пиджак, эти ботинки в хороший вид, ему не хватает устремленности, чтобы накрыть на стол. Он придавлен воспитанной Маннелигом ничтожностью и каждый вечер осужден за ничтожность. Уставший хозяин возвращается с работы, чтобы найти обескровленный труп на своей постели, целый день маринующийся в собственной посредственности. Он пытается расшевелить это телом разговором о своей жизни, о многочисленных заботах будних дней, но не находит понимания на ясном для себя языке. Разговор, выстроенный по привычкам Пигмалиона, действует Маннелигу на нервы, но, все же, он впервые чувствует себя полностью разделенным с кем-то, полностью подчиненным и подчиняющим. Мечта о дома-исключительно-для-двоих выражена в страдальческом сосуществовании. Их взаимная любовь рассыпается при попытке контакта. Там, на улице, кипит жизнь, Маннелиг знает об этом, но не может коснуться ее, ведь жизнь не любит герра Маннелига, а Пигмалион не знает о жизни, он забыл жизнь и забыт жизнью. Он продолжает накручивать свои ощущения и свой разум, чтобы вечером тщетно пытаться насытить душу и разум Маннелига беседой. Когда это не получается, они снова выходят на улицу, чтобы прогуляться, в надежде реализовать свою любовь движением и взаимной ненавистью ко всему живому.
Маннелиг раздражен тем, что ненависть к людям в Пигмалионе выражена пассивно. Она более честная, чем ненависть Маннелига – выражена исключительно тишиной. Эта ненависть не использует слова для своего выражена, она полностью вырезает человечество из поля зрения Пигмалиона. Маннелиг чувствует свою слабость перед силой подобной ненависти; свою он привык выражать горячностью, а свою лояльность в отношении человеческих качеств Пигмалиона – любовью к нему; ему необходимо как-либо разделить пространство на любимое и ненавистное, поместив в первое исключительно Пигмалиона, но пространства все равно смешиваются, и Пигмалион ощущает направленную на него ненависть. Эту ненависть он переваривает холодно, и заставляет Маннелига страдать от холода. Они гуляют по улицам и возвращаются домой, где Маннелиг начинает жарить для своего любовника мясо. Всю свою любовь он вкладывает в этот огонь, но, кажется, Пигмалион кормится исключительно собственной ничтожностью, и остается к мясу и любви Маннелига равнодушным. Пигмалион говорит « Ne me quitte pas», но это звучит издевательством и литературным приемом; Маннелиг не знает французского, и знает лишь перевод, но Пигмалион никогда не спускается, он только « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas» и ни одного человеческого жеста. Пигмалион снова остается один в квартире, и все в ней кажется ему чуждым. Теперь, после знакомства с Маннелигом, все кажется ему чуждым, даже он сам – обращенный к самому себе – уже чужой, уже израсходовавший свое предназначения, существующий только для увеселения Маннелига; и Пигмалион с затаенной радостью знает, что веселить осталось недолго; непонимание скоро вырвется в слово, и тогда Пигмалиона ждет радостная смерть. Там, после этой смерти, Маннелиг отправится дальше, в какую-то новую любовь, более ясную и с горячим мясом, хорошего качества прикосновениями, с дорогой одеждой и блистательными подарками. Там, уже скоро, они оба будут избавлены от глупого творческого восприятия Пигмалиона, от его любви – к ожившей красоте, лишенной чувственности. Там, очень нескоро, Маннелиг поймет, что никто, кроме Пигмалиона не принимал его истинной холодной натуры, не любил его мраморные изгибы любовью художника к красоте. Там, с кем-то другим, кто покинет Маннелига, и подарит ему возможность сетовать на страдание, Маннелиг будет шептать « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», не вспоминая Пигмалиона, но навсегда – с Пигмалионом внутри себя.
Рано утром Пигмалион оказывается на улице. Нельзя сказать, что Маннелиг выкидывает его вон. Это слишком некрасиво для его красивых рук. Но – скорее всего – он именно выкидывает его, и Пигмалион оказывается на улице. Он ждал этой минуты, он рисовал ее в своей голове, и это было его единственным творчеством все эти месяцы. Утренняя улица оказалась совсем не такой, какой видел ее внутри себя Пигмалион. Она была залита болью, горячим весенним солнцем и людьми, которые куда-то двигались. Пигмалион знал, что все закончилось, а Маннелиг еще нет. То, что для первого смерть, для второго лишь выдох. Поэтому Пигмалион идет по улице. На самом деле он не знает, как ходить по улицам и куда сворачивать без помощи Маннелига, и в этом он чувствует силу своей ничтожность, в ничтожности – силу своей любви. Все эти люди вокруг, весь этот солнечный свет как-то существуют без любви, и теперь Пигмалион, наказанный за врожденный брак, так же существует вне ее контуров. На самом деле ему легко. Кажется, он способен дышать, теперь – не нужно никаких усилий, трагедия, к которой он так долго готовился, состоялась, можно расстегнуть пуговицы. Это похоже на долгие репетиции и премьеры. Пигмалиону больше некуда спешить, больше не для чего ощущать свою посредственность, и поэтому он перестает ее ощущать и спокойно идет по улицам без помощи Маннелига. Маннелиг, которому не в кого – временно – больше внушать ничтожность, ощущает себя слабым. Там, на улице, пространство наполнено светом, но Маннелиг отрицает свет. Пигмалион создал для него тысячи картин уродства, и только в их зеркале Маннелиг отыскал свою идентичность. Там, на улице, изгнанный Пигмалион удаляется, но именно в его руках возможность вернуться: униженному больше некуда падать, а гордый Маннелиг прикован гордостью к постели. Пигмалион мечтает о возвращении, он мучительно язвит себя картинами примирения, зная, что его уже разлюбили. С красивой жестокостью он представляет, как Маннелиг вскоре поцелует другого и другого заверит в вечной любви; с завершенной трагичностью Пигмалион повторяет « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas», « Ne me quitte pas» и теперь уже точно – пьеса его закончена, драма удалась. Пигмалион растроган до слез глупостью своей роли, своей бездарной смертью, теперь у нее есть полное право творит скульптуры уродства, и создать удивительную статую своего возлюбленного – навсегда утраченного, и поэтому ценного. Он идет по улицам в самозабвенном отчаянии. Желаемая точка поставлена в его сценарии. Отчуждение произошло, он уходит с тех улиц, по которым гулял вместе с Маннелигом.
А тот, когда его позвали на похороны, пришел, чтобы показать свою охлажденность. Отказ мог трактоваться затаенным чувством. Он пришел в комнату, где стоял гроб. Маннелиг впервые видел пространство Пигмалиона и с удивлением ощутил понимание его красоты. Даже в гробу Пигмалион оставался завершенной картиной – неприспособленной к жизни, но прекрасной под определенным углом. Всякое обвинение Маннелига было опровергнуто фактом этой смерти. Наказание за материальное неприспособленность – смерть. И эта материальная неприспособленность, эта отчужденность, которая трактовалась Маннелигом, как отсутствие чувств, теперь была признана достоверной, когда Пигмалион погиб под колесами автомобиля, не знающий правил движения через дорогу. Но Маннелиг уже не чувствовал никакой любви – и не показывал ее – он уже испытал новое знакомство, в котором видел надежду найти верного спутника жизни. Он так же знал, что этот спутник – окажется временным – и что состарится и умереть ему предстоит в одиночестве. И в этом он находил свою единственную радость и, пожалуй, единственную точку пересечения с Пигмалионом. На этих похоронах он ощущал радость потери, торжественную погребальную песню, оправданное отчаяние. Все на этих похоронах стало для него значимым и правомерным. Когда Пигмалиона опустили в землю, Маннелиг получил индульгенцию своей красоте и право на вечную боль.