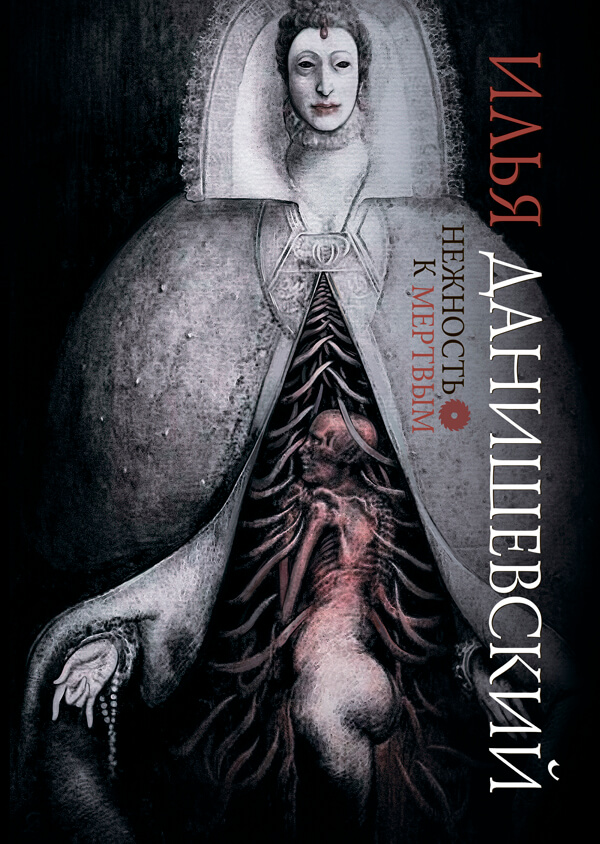Страница:
Может, в других городах, где дождь имеет свойство заканчиваться, все иначе. Но она существовала только здесь, и в городе всегда дождь, чайки и прохожие всегда мокрые, этот вечный запах промокшего, сырых церквей и сырой веры. К кошмарной ночи все прячутся, и потом все повторяется. Но миз М. даже в эти ночи, когда Богу снятся кошмарные сны, не боится. А она бы хотела хотеть бояться, но не хватало сил; никогда не хватало сил захотеть хоть чего-нибудь, артишоков, вон того мужчину в жилете или нырнуть с призрачной бухты. Глуповатый мужчина с багром, выцепит ее, как тело, а она бы заплыла, где нельзя успеть спастись, если уж телу захочется захотеть выжить. Не хватало желания для этого прыжка, не хотелось вымочить платье.
Иногда город накрывали еще более сильные дожди, чем обычно. Спящий Бог видел плохие сны, и города, замкнутые внутри Бога, тоже их видели. Каждый изнемогал от кошмара, большинство жили от одной этой турбулентности до другой, и об этом всегда молчали. Будто этого не случается, будто бы каждый год город не затягивает в какое-то иное пространство, и тогда удильщик мертвых видит, как трупы венчаются под водой, тогда у старого врача сквозь рот начинает выползать умершая жена: холодные пальцы ощупывают зубы, и это – как обычная тошнота, вначале не ясно, что происходит; рот наполнен вкусом соли, и когда пальцы отодвигают губы, губы слегка рвутся, и вкус соли находит подтверждение кровью; она выползает из него по локоть, бренчит золотистым браслетом, а он уже согнулся, на коленях, и она мертвой кистью отчаянно бьет по воздуху, попадает по чашкам и бьет их, цепляется за ночной столик, и лезет дальше; ее крохотная грудь лежит на его окровавленном языке, голова уже разорвана, и женское тело почти высвобождено из пут его несвежего дыхания; Нико грезит, что трюфели поедают друг друга; влюбленные теряют влюбленных, а затем город вползает обратно в свою банальную и затасканную реальность, где люди продолжают бродить по дождливому городу. И старательно забывают, что он, его древние улицы и построенные поверх древних – новые, одновременно существует и здесь, и там, где над жалкими смертными плывет среди черных туч корабль, пришвартованный ржавыми якорями к небу, и если посмотреть на него, сознание даст течь, можно никогда не вернуться, просто забыть, что реальность имманентна и реальна, остаться и смотреть в водоворот черных грозовых туч, и слушать, как рвется ткань обыденного вокруг тебя, и как медленно люди забывают о твоем существовании, забывают, чтобы не признавать мира страшного сна и тебя, как новую часть, этого ежегодного морока.
А город такой, как обычный город. Только вечно идет дождь. Но дамы не спрашивают, как живут дамы в других городах, такие дамы, которые не вынуждены вечно ходить с зонтами; как это: обувь не из резины и не на твердой подошве. Такое спросить, как бы признать неестественность этой жизни. И спросить, почему вечно туберкулез – усомниться, что где-то есть место, где живут иначе, оттолкнувшись от этого, потерять покой. И мучиться в сто крат сильнее, когда Бога вновь засосет в область кошмарного сна, чем те, кто не думает, а есть ли пространства без черных снов.
Миз М., в школе ее звали «крючковатый нос», и правда, нос слегка сгорблен, ее нос и ее спина – близнецы, зачатые в не очень удачный час; четыре года назад она была единственной, кто встретил кошмар лицом к лицу. Она думала, что в этом будет какой-то смысл. Или ощущала необходимость увидеть его. В этом что-то было, и она почти хотела… хотела, но не до конца, а только тенью желания, какой-то наметкой на него, единственной тенью на желание за всю свою жизнь – увидеть, что же такое ночной кошмар. Она вышла на улицу в дождь, она не могла не послушать этой тени, потому что даже тень желания была для нее неясна, и она прислушалась к ней и вышла в город. Впервые кто-то видел город безлюдным. Мертвый храм св. Франциска закрыли, и все магазины, все переулки, все дома, всех людей закрыли внутри мертвых помещений, все скрывались друг от друга, а вокруг города уже начинали вращаться тучи. Ей показалось, что это дроздов закрутило в смерч и крутит-крутит их мертвые тела по кругу, опоясывая трупами пределы города, и что падают вырванные силой ветра перья, но потом поняла, что это обрывки туч. Бог терял рассудок, и черные тучи собирались все туже и туже, сплочались, никто не видел этого, как она. Каждый лишь ощущал, что раз в год происходит нечто, и не вдавался в детали, они уже закрывали окна и глаза, и никогда не видели, как именно это происходит. Как с города медленно сползает лицо, и оголяются серые высохшие здания, ободранные фасады, как Бог прекращает думать, и впадает в болезненные сны, как эти сны вращаются вокруг города, и вначале кажутся дроздами, затем тучами, как ветер гуляет по улицам, как подхватывает трупы собак, и ломает им позвоночники одним звонким ударом об угол пекарни; как срывает все; и все молчит. Миз М. в этом известном платье – каждый чаще других одежд видит на ней именно это, с тугой серебристой застежкой на спине – с этими сморщенными бровями, с этой сигаретой, полузастывшая в кататонии и немом ощущении чего-то важного, посреди города, полуосмысленная и взлохмаченная сильным ветром. Ее зонт уже сломался и отлетел в сторону, если бы ее кто-то видел – двое мужчин, что вечно играют в карты – то спорили бы, как скоро сломает и ее. Переломит этот немного изогнутый позвоночник. А она задрана вверх, немного подняла руку и дребезжит пальцами, будто бы эти легкие движения являются причиной страшного вихря. Она уже потеряла желания, и его тени, но продолжает стоять, уже бессмысленная и бесчувственная – сломает или нет, как ту желтую псину – оставит или убьет, и что он такое – вихрь, накрывающий город каждый год и заставляющий видеть жителей видения жуткой жизни4.
4. Черные облака полностью срослись, и теперь кажутся какой-то опухолью на небе, живыми, нет, мертвенно-железными, как обручи на деревянной бочке, плотными. И потом начинается шум. Когда сцена уже готова, начинается шум механизмов, и миз – она бесстрастно смотрит – сегодня зритель, а значит, шум будет особенно яростен, особенно эффектен, как на премьере, и кошмар в этом году будет особенно пышным для жителей этого города. Она видит – глаза пустые, рыбьи, утопленники в призрачной бухте – этот корабль, корабль, который будто плывет на обглоданных мачтах сквозь бурю; и тут же – нет, не плывет, а застрял, выстрелив вверх, в эти тучи, якорями, и висит. Ревет его тело, бьются о него ветра, и шумит, от этого шума кошмары спускаются в город… этот шум, будто его мотор, но нет, это – краем глаза заметно, почти неуловимо, но заметно – реальность комкается, медленно рвется, за ней обнажается что-то, но миз М. не может разглядеть, потому что стоит обернуться, и все, как прежде, и рвется уже в другом месте, никак не поспеть ухватить эту иную проекцию города. Трещит от того, как дальние улицы, никем не замеченные, рвутся, скидывают с себя брусчатку или же лопаются под ее тяжестью, и вся брусчатка сыпется во что-то, что живет под улицей. И дома раздвинулись, заговорили друг с другом, и какие-то слились в одно, целый год разлученные людским движением, сквозь широкую улицу примкнули губами-окнами к желанным губам напротив, и раздавили собой проспект; и какие-то раздвинулись, так давно хотели и, наконец, раздвинулись, этот богатый дом отскочил, подпрыгнул, как танцор или художник в скособоченной кепке от прокаженного, дома, где испражняется в собственные простыни старик. Дом-прокаженный двигается за ним и хочет, мигает окнами, хочет, шатает дверьми, объясниться. И призрачная бухта сцеживает воду, вся в тине и плесени, дрожит, своим раздраженным дрожанием заставляет всех утопленников встать, немедленно, давно утонувший фонарь сегодня, как бригадир, гонит своим жестоким светом по обезображенным спинам – работать, очистить бухту от тины и плесени, работать; и утопленники встают в ужасе, что ударом света фонарь рассечет их гнилые и тонкие-тонкие кожи, если они не будут прилежно работать; и фонарь бьет тех, кто еще не поднялся, кто делает вид, что работает, но отлынивает, и соскабливает ногтями тину и плесень, и особенно рьяно бьет ту проститутку, что боится испачкать ноги о тину и плесень и, исполосовав ее лицо своим светом, что теперь она – то ли мужчина, то ли женщина, не разобрать по лицу – гонит ее на работу, как всех других, а когда все вернется, и город людей станет городом людей, вода наполнит бухту, и вода выполаскает грязные ногти своих утонувших жителей от застрявшей под их ногтями тины и плесени.
И что-то еще происходит, но прячется от миз М., от ее неопределенного семейного положения, от ее нелюбопытства, и она только думает, сломает ли ее или произойдет что-то иное, когда та часть улицы, на которой стоят ее ноги, тоже изменится. Сомкнет домами, изнасилует дряхлым флюгером на святом Франциске или что-то еще, такое же неважное, ведь чтобы ни случилось, она, оставшись в живых, перешагнет это, а единственной тенью желания ее было – такое, такое, ТАКОЕ, которое делает жизнь хоть капельку важной. Это было четыре года назад, она сделала что-то не то, и она была достаточно стара, чтобы понять и признать – в жизни не будет ничего, никаких кульминаций, ничто не закончилось, потому что оно не начиналось, ничего даже не начиналось, не имело смысла и тайной подоплеки. Тайное было лишь у этого города, и оно появлялось раз в год, но тоже бессмысленное, просто такая погода – кошмар; как дождь или град, может, неведомое для других городов, но для этого – самая заурядная и предсказуемая вещь, происходящая каждый год, помогающая продавцам лекарств продать за день недельный запас успокоительных, ничего… такого, хотя бы – какого-то.
Все внутри молчало навстречу этому шуму и рвущемуся пространству.
Это было четыре года назад. Она позволила Нико подзаработать у Арчибальда. Она помнила, почему. Поэтому не уволила его после того, как все разоблачили его тайну. В ту ночь ей было нужно остаться одной. У нее еще было некоторое время до ночного кошмара, чтобы все решить. Эта черта, этот срок, ускоряли ход мыслей. И она решила. Кажется, именно это решение подвигло миз М. несколькими часами позже выйти на улицу и встать на перекрестие этих улиц, чтобы услышать рвущуюся реальность. Нет, даже не решение, а то, что его исполнение ничего не вызвало… это просто случилось, как сейчас случается (пусть миз и желала бы, чтобы ее историю рассказывали в прошедшем времени, как про покойницу), что она надевает шляпку, и то самое известное платье, туго застегнутое на спине серебристым крючком. Вечеринка в доме художника Арчи не заставила ее изменить этому платью, с плохо работающим крючком на спине.
Никакого «морального плоскостопия» и «апатии»; болезни – это уже что-то, за них можно зацепиться в этой реальности, сделать их врагами или иконами. Не было ничего. Но врач говорил, что это «апатия», и ему снилось, что из него вылезает его умершая жена, бренчит золотым браслетом, и рвет его рот своим мертвым телом. Он цеплялся за нее, его рука теребилась, бренчали на волосатом запястье часы, он цеплялся за воздух, а жене Арчибальда снилось, что на тысячи голосов, тысяча разных людей спорят «моя ли ты дочь?», и никто не находится истинной матерью, все тонет в бессмысленности, и все не решаемо, и это оттого, что ранним детством она потеряла мать, та исчезла в вечных любовниках, умерла от сифилиса, как манифест гетеросексуальных эмоций. Но миз М. знала, что апатии нет, апатия – что-то слишком вещественное; миз М. знала, что лишена маяков. Она слишком хорошо помнила свои сны. В них не было привязок и крючков, только этот серебряный крюк на любимом платье. Она всегда – каждую ночь – снилась сама себе в этом изношенном платье. И никаких маяков. Бессюжетная темнота.
В доме Арчибальда были все, даже неуклюжий констебль. Миз М. ухватила что-то из прошлого, но решила оставить это на более пьяное время. Она стала сплетничать с миз Г., так и желая спросить, почему же миз Г. отказывается озвучить свое семейное положение, но не спрашивала, и они говорили о другом.
Дом был солидным, давно умершим. Когда-то вокруг него рос пышный сад, но умер; и сам дом тоже умер, его ранее бежевые живые обои переклеили на желтую трупную кожу. Внутри пили шампанское, и миз М. слегка опьянела. Она присоединилась к игре, когда все гости начали пьяно бегать за голыми собаками. Теперь она точно знала за что заплатили Нико: бегать голым на четвереньках и забыть, что ты человек – это дорогая штука; в доме было трое «псов», в одном из них узнавалась старая прачка с обрюзгшим телом, она была мопсом и поэтому ей разрешали развозить по паркету слюну. Мопс не успевал за другими псами: блондинистым ретривером с большом членом и жгучей овчаркой, с членом поменьше. В конце концов прачку оставили в одной из комнат, а с другими псами заперлись в спальне. Миз М. внезапно отыскала себя по другую сторону двери, и некоторое время слушала, как собаки воодушевленно лают, и светские дамочки лают под собаками.
Она отправилась искать констебля. В этом была какая-то особая пьяная игра: желтый дом, трупы, легкие крики собак и женщин за спиной, не наступать в слюну жирной прачки, найти констебля. В этом что-то было, но миз М. не могла понять хорошее или дурное. Что-то среднее, никакое. Как и этот констебль. Вот, он такой уже пьяный, с каким-то молодым мужчиной под руку у окна. Старается не сблевать на гардины, облокачивается на кадку с дряхлым цветком и говорит сдавленно «это мой сын от первого брака», и миз М. улыбается: «от первого брака, как интересно! И откуда вы? И давно вы? Давно вы здесь?» – нет, ей хочется спросить и давно ли у тебя появился сын от первого брака или почему ты забыл сказать мне об этом, но она спрашивает давно ли он приехал в этот город, и откуда он приехал. «Пять месяцев», и миз хохочет, ей многое становится ясно, она может и не хочет этого говорить, но говорит «ха! Пять месяцев! Ваш отец так долго искал вас, милый, попробуйте заглянуть в призрачную бухту, там он не найдет ваших хлебных крошек», и тут же вспоминает, что хлебные крошки в призрачной бухте будут съедены удильщиком трупов. Ее начинает тошнить, констебль краснеет от таких намеков, а мужчина – наверное, у него дурно с головой, он внутри себя, его нет здесь, а те люди ему мешали – смотрит выпучено. Она отходит к окну, другому окну, подальше от констебля, нюхает гардины, хочет что-то ощутить, она поджигает себя изнутри, хочет трагедию, ведь все составляющие трагедии налицо, но ничего не чувствует. Она даже говорит вслух, говорит гардинам, ведь в трагедиях всегда говорят с мебелью, говорит, исповедуется, и говорит так тихо, пыльно, приглушенно, как плачет, но все мертво. Но она продолжает: «…а у него оказался сын. И сейчас ему все равно. Можно оказаться с ним в постели, но нельзя в его сердце. Как не крутись, как не кричи, а у него оказался сын, и я как бы виновата, как бы чувствую стыд, но не знаю за что, но чувствую. Как все не так, как я бежала от него, как вытравила ребенка в ту ночь, и потом ждала наказания от кошмаров, но Бог спал. Я вытравила, чтобы он кричал и плакал, но было поздно. Он не кричал, он не плакал, и у него был сын, и он ничего не чувствует. И я к нему ничего не чувствую. И никогда… не чувствовала к нему ничего и никогда. И к этому ребенку. И даже к тому, что этого ребенка нет. Мне даже не страшно. И будто бы слегка обидно, но это лишь тень и иллюзия обиды, что эта свинья пьяна и она далеко, ей не хочется плакать и стоять на коленях, а я бы его не простила, потому что ничего не чувствую, но разум играет, что ему как будто обидно за то, что эта свинья уже давно стала отцом. А я бы не простила, но хотела бы проявить это непрощение, чтобы он встал на колени и плакал, и обидно, что он не стоит, он не знает, что я его не прощу, и ему даже не важно – прощу или нет – он даже не знает, что мой разум играет сам с собой в обиду» – и опустилась вниз по гардине, старая прачка, увидев миз М. подумала, что та расчувствовалась от старой любви, и только миз М. знала, что ее сейчас вывернет наизнанку от перепитого шампанского, и что в сердце у нее пусто, только, кажется, все четыре сердечные камеры заполнены алкоголем, и от каждого удара сердца вверх по телу, сквозь гортань, выходят пузырьки, и сердце пустеет.
И тут подползла старая прачка. Все было испорчено. Заламывание пальцев в гостиной желтого цвета и приглушенного света было испорчено, потому что липкий мопс обнял миз М. за плечи и стал говорить то, что обычно и говорит одна женщина другой женщина в таком случае. Трагедия удалась, зрители потрясены. Стало понятно, что слышали не только гардины, что слышали и другие. От этого стало так смешно, что миз М. не сдержалась, но прачка приняла это за слезы и стала еще более страстно говорить то, что обычно и говорит одна женщина другой в таком странном случае. И вспомнился мальчик. Кажется, он был лет на пятнадцать младше, неместный, его кожа была темная и не мокрая, он зачем-то пришел оттуда, где не льет дождь. Она хотела его. Хотела выпить его жаркое сердце от какой-то зависти. Она не понимала, что это за чувство, но эту горечь ни с чем нельзя спутать, и она знала, что хочет выпить его жаркое сердце, не совсем понимая зачем. Больше для того, чтобы и у него не горело, чем для собственного тепла. Она хотела его, будучи старше на пятнадцать лет, она грезила несколько дней и ловко плела сети, она получила, она выпила, и тогда, обкрученная красной простынею, сохранившая на теле следы его ласк и убеждений, запах его мыслей, подошла к окну, чтобы смотреть в дождь. Было так понятно, что его тело, раскинутое на кровати, навсегда будет здесь, в стране дождя, отныне и навсегда она в нем что-то испортила, горечь еще оставалась, и своим хриплым – красивым, немного островатым и хриплым, но красивым – голосом запела слова как бы из другой вселенной, вынутые из его… жаркого сердца, а он, лишенный этих слов и жары, бледнел на ее кровати. Кажется, он умирал, но она не смотрела, его неопытное тело больше не доставляло интереса, она просто пела, потому что эти слова в ту ночь стали ее, и не знала, что же значит – «Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia…» – и, не зная этого языка, но будто отхаркивала наружу, чтобы оно никому не досталось и никого не зажгло, это яркое жаркое сердце.
Когда спальня вновь открылась миз М. была уже вновь миз М., без тени тусклой трагедии, без налета этой глупости, а мопс получил на чай за участие в массовке. Арчибальд сказал, что «Эм (он так тянет звуки, как ест), такой цвет лица, такой…», его жена подтвердила, и от нее пахло собаками, и от ее мужа пахло собаками, и всем было очень хорошо. Некоторое время эти все делились мертвыми словами друг с другом, а потом начали говорить на любимую тему – какие кому снятся кошмары? – и все друг друга жалели и подливали шампанское. Констебль помог надеть пальто уходящей домой даме, и миз М. это встревожило. Не ревность, но ощущения вялости и старения в теле, своего упадка по сравнению с гладкой шеей и запястьями этой: с боа, узкой сумочкой и чем-то еще неуловимым, но почти наверняка, называемым свежестью. Нет, она почти наверняка уже бывала с мужчинами, и может даже играла с собаками несколько минут назад, но в ней не было затасканности, одеванности, она всегда была узкая, как первый раз.
Когда миз М. снова увидела мопса, ей стало неловко. Получается, живущая в бессюжетная темноте только что, сама не ведая, она подарила этой жирной и седой сюжет. Та скажет «был прием, и дама плакала, а я ее утешала», та приобщилась к лживой трагедии, но испытала и взяла от нее, как от настоящей. И было в этом что-то болезненное, как день за днем видеть рядом с собой одного и того же человека, изображать радость за него и молиться за него как бы искренне, а еще говорить ему честно, и при этом честно наедине с самой собой отмечать, что говоришь правду «я хочу от тебя третьего ребенка» – что-то с душком настоящей трагедии. Беззвучно растекшейся в воздухе. И миз М. поняла, что уже над ней не властна, уже не плетет, а как бы выпустила из себя, и это детище существует отдельно. И существует в разы более счастливо, чем его создатель. И его уже не лишить жизненных соков.
Преступали к главному блюду. Констебль кому-то подливал, и рожденное этим становилось систематичным. Какая-то перманентная тошнота в желтых стенах. Особая желтизна, особого тона и тембра свет горел в главной комнате. Здесь как бы все было нормально, только запах немытости и смерти был в воздухе: не естественного и жаркого разложения, но мучительной и растянутой в годы настоящей смерти, которая пахнет лакрицей, бумагой, старой одеждой и какими-то лекарствами с фруктовым вкусом. На высоком стуле сидел наследник художника Арчи, маленький и скелетоподобный мальчик в маске свиньи. Он сложил руки на коленях, и смотрел в прорези на толпу. «Он сидит уже два часа!» – с гордостью говорила жена Арчибальда, никак не вобрать в разум, как ее звать; и все начали аплодировать. Миз М. поняла, что чего-то не знает, но не оттого, что это скрывали от нее, но от безразличия. Она тоже начала хлопать. Конечно, как не хлопать, ведь шестнадцатилетний мальчик сам собой сидит на стуле уже два часа в комнате, где такой мертвый цвет павшей лошади. Это действительно трудно. Не упасть, не захотеть скончаться, не присоединиться к мамочкиной оргии, это правда заслуживало оваций. Она аплодирует собственной памяти5.
5. Дождь и ветер. Они стоят напротив друг друга. Он – то ли такой высокий, то ли сидит на огромном стуле, а длинные какие-то женоподобные юбки прячут и его ноги и стул. Она задрала тогда голову, чтобы его увидеть, и он показался ей судьей за своей кафедрой, и себя она тогда увидела подсудимой. Конечно, ведь ей казалось, что-то произошло, что она вытравила ребенка констебля, и что-то произошло, и этот сон, где она подсудимый, а это существо – судья – казался ей естественным, даже закономерным.
Миз М. ждала, что же будет дальше, и изучала существо. Рыжий и облезлый, у него никогда не было женщин, это ясно, тонкие круглые очки на странном лице. Лицо будто срезано с тела и посажено на деревянную куклу. Тут и там видны швы, видны эти гвозди, которые прибили кожу к дереву, рот не шевелится, за губами нет зубов и языка, нет гортани, за гортанью пищеварительного тракта, в теле нет крови, и кровь не бьется в венах, и самих вен тоже нет. Вокруг него вращается черный смерч, это он спустился с корабля кошмаров, и он – капитан, Марсель – принц Ваезжердека; он управляет всеми кошмарами, его деревянное тело выдумывает их, его отсутствующее дыхание – выдувает наружу и, обращаясь ветром, разносится смертным. Он сидит и глухо двигает мертвой рукой, которая обита мужской кожей, но это существо – не мужчина в полном смысле. Не как Нико, нет, он просто что-то иное. Категории пола, роста, веса и философских взглядов – были не про него. Миз М. всегда хотелось быть такой, но даже сейчас, когда она видела Марселя так близко, она не могла понять какую из его черт стоит украсть, чтобы стать похожей.
Потом подул ветер, и все исказилось. Эти его коричневатые юбки вздернулись, и миз М. подглядела в чужой сон; она была и она спала, но сейчас видела сон другого человека, видела то, что снилось в ночи кошмара Нико. Ее слуга стоял на коленях, прятался от бури под этими коричневыми юбками, его голова и его тело мелькали за длинным деревянным шестом, на вершину которого было насажено тело капитана кошмаров. И Нико занимался своей обычной работой. Даже во сне, даже в кошмаре он занимался тем, что работал рабом у знатного господина. Он мыл его нескончаемое тело. Миз М. вначале даже не поняла, что скрывается под юбками, и силилась это разглядеть: множество голых тел; ног не было, только огромное количество рук, и руки шарят по деревянному шесту и силятся держать его ровно, чтобы капитана не кренило и он не соскальзывал вниз. Деревянный торс с прибитой к деревянному лицу человеческой кожей – был будто вершиной поочередно скрепленных друг с другом других человеческих торсов. Там, где талия сужалась до невероятной тонкости, начиналась шея другого тела, которое заканчивалось шеей следующего. Все это подчинялось инородному рассудку, плавно и мертво движущейся руке в перчатке мужских пальцев, и в этих телах миз М. увидела и свое тело, с едва сгорбленной спиной, и тела многих своих знакомых, многие из тел, побывавшие в ее постели, и не очень красивое тело констебля. Все двигалось, иногда сплеталось руками, тело одной руки трогало ребра другого, и так бесконечно, и этими движениями создавалась энергия, и энергия генерировала бесконечность этого кошмарного пространство. А Нико мыл эти тела, потому что раз в год, хотя бы раз в год, каждое тело нужно мыть; даже страшно представить, что случится с этим городом, если один из этих сегментов заразится гангреной, пойдет волдырями или умрет, что же случится с дождливым городом, если этот организм распадется… поэтому ночь кошмаров длилась, пока Нико не отмоет каждый сустав и каждое ребро, каждый сантиметр желтой и страшной кожи этого существа. А смысла не было; не было какой-то кары в явлении капитана, не было ничего, одно лишь его появление вызывало у людей ночные кошмары, но появлялся он не за тем, чтобы мучить, а просто чтобы отмыть свое тело. И у каждого жителя города перепутаны причины и следствия. Системы приоритетов давно мертвы. Тот, кого приглашали играть собаку в доме Арчибальда оказался самым приближенным к капитану кошмаров. Пожалуй, он не мог бы приблизиться к нему больше, даже став любовником одного из этих тел; не было и не существовало, не выдумано человечеством ничего более интимного, чем стоящее перед глазами миз М. в ту страшную ночь.
Эта история должна быть рассказана в прошедшем времени, как про мертвецов. Как про людей, заключенных в единое тело; засыпающих и бьющихся кошмарно под взглядом этого божества в свиной маске. Без эмоций, без возможности вырвать из 146-го сегмента этого огромного тела, от ежегодной протирки твоих суставов гермафродитом по имени Нико.
Ночь была глупой и безнадежной. Покрытая сверху донизу дождем. Безнадежность желтых стен, в которые были замкнуты эти люди граничила с психическим расстройством, с лицом, скрытым под свиной маской. Миз М. должна была убедиться. Кажется, это что-то значило. Ее собственного примера не хватало, чтобы осмыслить хотя бы тень этого замысла. Она посмотрела на прачку, вспоминая свежие одежды капитана кошмаров, и, кажется, ухватила, что все они скрывали под лицами что-то; она должна была убедиться, и кажется, глаза прачки поддерживали ее решимость. Одним ловким движением она сорвала свиную маску с шестнадцатилетнего парня, который сумел два часа просидеть на стуле.
Его кожа будто была прицеплена на безжизненный череп. Более тонко, чем гвозди капитана Марселя, но она будто жила не на своем месте. Тонкая слюна стекала по подбородку аутика, и все молчали, чувствуя неловкость момента. Каждый вспоминал о кошмаре, который снится жене Арчибальда, где тысячи голосов спорят о материнстве, один голос пытается спихнуть виновность в нем на другой, не менее испуганный голос. Тысячи сегментов сросшегося тела спорили в этом дурном сне, а ее шестнадцатилетний сын уже два часа просидел на стуле и не упал. Она бы хотела – не говорила и не думала, старалась, очень старалась – чтобы он упал. Насмерть. И его похоронили в саду, и больше в глазах Арчибальда не будет этого немого крика, больше не будут нанимать собак на праздник и можно будет изменить запах в доме. Выпустить отсюда вонь лекарств с фруктовым ароматизатором. Но эта тварь – чудовище, стеклянные глаза, изломанный позвоночник, будто деленный на множество сегментов, будто с множеством талий, и ни единым рабочим органом – сидела, дышала, она говорила, что хочет и будет жить вечно. Как немой укор, как памятник на этом высоком стуле всему кошмарному, что приходит ночью. Своей мочой на простыни будет напоминать, своим криком и своим бессмысленным взором с этого трона он будет напоминать человечеству о своем существовании. Он не хочет быть похороненным в старом саду, и ему ничего никогда не снится. Он даже не способен мыслить, и, от этого хочется выть, и от этого нанимаются собаки, от этого все отчаяние, и именно этой какофонии завидует миз М., – Арчибальд его любит. Арчибальд любит его больше, чем посиневшую от заботы о безумном сыне, кожу своей жены.
Каждый будто поймал в воздухе и разжевывал, что Арчибальд лишь тенью любит свою жену, и любит только за то, что она родила ему ЭТО, немое божество, с которым он пытается сделать дом из картонных кубиков. Шестнадцать лет оно живет здесь, и источает свои кошмарные сны.
Оно вдыхает
горячие сердца вошедших в этот дом
оно
живущее
в бессюжетной темноте. Не знающее и не имеющее даже оттенка мысли о существовании сюжета и умысла. Какое-то неприлично счастливое, когда отец касается его неестественного лица и мертвенной кожи под глазами, кричит радостно, криком, от которого каждому, кроме Арчи, хочется умереть. Немая тварь стала единственным источником вдохновения для Арчибальда, немым укором его жене, немым хозяином дождливого города.
Все смотрели в два разоблаченных лица – ребенка и его матери – и только миз М. понимала многозначительность увиденного. Ее никто не замечал, она была невидима, и невидимой подошла к констеблю, чтобы сказать «идем, и возьми сына, идите по хлебным крошкам», и, как обычно, он не сумел отказать разрезу ее юбки. На столе было достаточно хлеба, а дом такой желтый, что разбросанные по нему желтые крошки – заметны только для ищущего. Они вели в спальню, где все еще пахло собаками. Миз М. даже не сомневалась, что они придут. Она лишь пыталась понять в эти последние минута своего одинокого пребывания в спальне, зачем она это делает.
Никто не выходит из дождливого города. Но, может, она хотела повторно войти в бурлящую реку. Или же в ней остались крохи жаркого сердца, которые она выпила из смуглокожего юнца. Может, она все еще была завернута в красную простыню революции, может, ее устраивал тот выход, который дарил сын констебля от первого брака.
Или хотела их сравнить.
Или кто-то выходит из города. Или что-то зреет над городом, и что-то уже поменялось.
Она знала, что хочет погрузиться вместе с ними в эту темноту без всякого сюжета. И лежать под ними в прошедшем времени, как покойница.
5. Те, кто отданы в жены
Небо Цюриха. Она смотрит в небо Цюриха, и не хочет увидеть птиц. Она думает о криках, которые издают лисы в период спаривания. Брачный сезон, вакхические танцы, течка, на снегу остается кровь, тень от деревьев, в свете ночника движение пальцев принимает облик медвежьей головы. Там, за окном – небо Цюриха, будто отпечатанный в одну краску типографский лист. Черная краска осенних туч. Она отворачивается. Там, на веранде лисы любят подсматривать за людьми сквозь огромные стекла. За женщиной в серых чулках, за дорогостоящей светской дамой около тридцати семи лет. Они видят, как она сидит за столом, они видят, как протирает шею, и как пальцы дергают неудобную молнию на платье, они видят ее гордо задранную шею и напряженное лицо, которые смотрит в небо, они знают, что она думает о них, думает об их спаривании. Картина спаривающихся лисиц тревожит ее, почему-то не существует ничего более грязного, чем лисьи коитусы. Возможно – медвежьи коитусы. Где-то под землей, в широких норах, размерные движения медвежьего паха. Но эти крики не доходят до застекленной веранды, тогда как лисьи – да.
Сегодня среда. Она встает из-за стола и выходит в просторный коридор, на ее ногах удобные тапочки, и она двигается бесшумно. Вот зеленые буржуазные обои, и вновь мода на железные канделябры. Ее зовут Лизавета, это ее канделябры. Лисьи крики и небо Цюриха принадлежат ей. Конечно, и всем остальным, если бы остальные – существовали. Там, внизу, Георге пьет кофе. Четыре кусочка рыжего сахара и молоко, никогда сливки. Георге сосредоточенно бренчит ложкой. Наверняка, антиквариат. В его толстой аорте, толстом животе и, конечно, больших легких – все помешано на антиквариате. Его медийный образ – это подражание Борджиа, и поэтому дом – будто желудок [Темного] Отца Борджиа. В Георге много утонченной распаханности, Лизавета даже думает, что Георге – похож на вспоротую вену. Он основателен, как любой невротик, плюшевый медведь Вуду, нашпигованный иглами, он – словно чья-то погибель, которая не была доведена до конца.
Георге. Дочитала?
Лизавета. Да, вчера. А ты?
Георге. Да. Мне не нравятся швы. Они очень заметны.
Лизавета. Думаю, это попытка передать дихотомию. После изнасилования часто наступает дихотомия и ангедония. Это нормально.
Георге. Иногда меня пугает с какой легкостью он движется. Это же почти ненормально. Ему ничего не стоит двигаться сквозь все это.
Она знает, что Георге не нравится бояться того, с кем он спит. Вероятно, у него не очень длинный послужной список. Невротики делают романтику еще более романтичной, они изнывают десятки лет во имя своего воздержания, их мозги тщательно анализируют объекты, иногда экран загорается красным – «ТО САМОЕ!» – оно, великая цюрихская любовь, любовь к самому факту любви, к той неожиданной встрече и первому поцелую, к ошеломляющим реакциям химии. Когда Лизавета думает, что именно То Самое может толкать их на отбеливание ануса и эпиляцию яиц, ей становится странно, хотя она понимает – почему бы и нет? Глянец обслуживает нужды человечества, но как-то травмирует, когда проникает в твою собственную жизнь. Резиновые члены и анальные шарики. При всех их привлекательности, есть какая-то карикатурность в их антиантичном назначении. Георге, вероятно, тоже испытывает легкое отторжение от неэстетичных форм, но будучи книгоиздателем, у него богатый опыт принятия.
У него бессонницы. Мигрени. Серый пиджак. У него существует нормальное человеческое детство. Его мать умерла от рака поджелудочной два года назад, Лизавета помнит, как Георге плакал и цеплялся за рукав Александра. Почему-то эти человеческие ноты в ДНК его прошлого кажутся Лизавете излишними, ее отталкивает, что в человеческих жизнях – столько человечного.
Лизавета. Но тебе понравилось?
Георге. Ну, это гениально.
Лизавета. Правда?
Георге. Конечно.
Лизавета. Ты очень хочешь торжествовать свою любовь. Празднование серебряной свадьбы с гением. Ты когда-нибудь думал, что ошибся? Что, если в нем нет ничего, кроме сделанного лично тобой? Нет никакого торжества над вечностью, и только твое торжество?
Георге. Не думал.
В дни, когда он страдает бессонницами – часто пьет кофе. Ему помогает. Александр уже спит, после сладких уединений он курит две сигареты и целует лоб Георге, как покойника. Автор и его книгоиздатель в сладкой истоме + анальные шарики, и беременная жена одного из них по имени Лизавета. Она решила сказать о своем ребенке во время обеда, то есть – уже сегодня, в среду, может быть, как обычно, будут звучать «вариации», Георге говорит, что «вариации» мешают язве глодать желудок. Четыре месяца никакой крови, никаких выделений. Ее дыра омертвела, стала банальным жерлом. Она ежедневно пила красное вино, но ничего. Две среды назад во время презентации – был утомительный перелет, и Александр смотрел в окно – собралось много народу, она стояла во втором ряду, и, конечно, никто ни с чем ее не поздравлял, жена гения прячется между чужих пиджаков, и разглядывает эту двойную иронию – закрытая гомосексуальность ее супруга и закрытость наличия Лизаветы, делает его образ притягательно-асексуальным, с поволокой дымы – они сильно выпили, красное вино пошло сверху. Но никаких месячных. Во время презентации она пахла «Герлен Грин Найт», а на Георге серый галстук Эрмес, возможно, в гостиничном номере он позволил связать себе руки, но, если так, его невротия должна была запульсировать. Любое инородное – неорганическое вмешательство – заставляет невротика испытывать сомнение в любви своего партнера.
Она решила рассказать в обед, после Главной Процедуры. Беременная жена, муж и его любовник – идеальная композиция, арабская вязь на тонком стилете их вампирического существования. Они трое – как огромный уроборос, сосущий собственный член. Если точнее: сорокачетырехлетний книгоиздатель, издающий книги своего любовника; тридцатидевятилетний писатель, вдохновляющийся историями своей жены; тридцатисемилетняя женщина, диктующая мужу истории пустоты и кровоточащий сок Древа Мертвых, и живущая за счет книгоиздателя своего мужа. Бермудский треугольник.
Георге. Кажется, он ушел от этой бархатной поэтичности. Теперь он рубленный, очень чеканный.
Лизавета. Разве это важно? Оно продается. Темнота всегда продается. Всегда. Репелленты возбуждают звериные чувства.
Во время Главной Процедуры Лизавета сидит на деревянном стуле эпохи Тюдоров. Георге с пылающими глазами разглядывает своего любовника, будто никогда не видел его раньше. Их любовь – это когда тебе просто больно, от того, что нужно отлучиться в сортир. У Александра белеют костяшки пальцев в отсутствии своего книгоиздателя, – как, впрочем, и у любого автора. Возможно, белизну вызывает астма. Иногда он задыхается, и тогда прыскает себе в горло спрей. Лизавета может увидеть его горло и его язык. Она никогда не трогала его язык, и точно – никогда своим языком. Некоторые вещи позволены только невротикам. Она знает, что он был девственником до Георге, но зато имел сильный любовный опыт во время аспирантуры. Она знает, что Георге был женат и у него есть дочь, но никогда прежде – он не испытывал любовного опыта.
Поэтому ей не остается ничего другого, как перейти к Главной Процедуре. Пустить новую кровь в их финансовую вену. К сожалению, ее муж творчески бесплоден.
Лизавета. Как я говорила, иногда они трахают лисиц. Не знаю почему, но им нравится размножаться с лисами. Возможно, что-то в лисьей пизде или матке такое, или кровь такая, что им очень легко вылупиться именно из лисицы. Во время спаривания те истошно кричат, а во время родов обычно умирают. Говорят, лисица, понесшая от них дважды – становится лисьей королевой, божественной рыжей потаскухой, и именно ей поручают воспитание темного потомства. Лисью королеву Цюриха зовут Маргарита. Ее шерсть седая, а глаза выгнили. Лисьи королевы правят рыжими стаями, пока новая королева не перегрызет ей горло. Это крещение кровью. Очень похоже на человеческое общество – вначале работа пиздой, а затем убийство. И торжество. Она прикажет слугам съесть умершую королеву, и будет смотреть, как подданные давятся гнилым, рассыпающимся мясом. Там, в огромной норе под старым цюрихским дубом, Маргарита правит лисами Австрии – огромная, около двух метров в длину… на ее рыхлой спине есть пробоины от охотничьих пуль. Раньше – четыре или пять столетий назад, на мертвецов охотились. Мертвое должно быть мертвым. Это сейчас ему место – на обложке Vogue.
Когда у лисицы наступает эструс, она начинает тревожно кричать. Ей очень нужно заполниться. И тогда приходят они. Мертвые седлают крохотные рыжие и белые тела, нашпиговывают их собой, и сквозь них – рождаются снова.
Георге. А где обитает Маргарита?
Лизавета. Недалеко. Ты хочешь увидеть?
Георге. Нет.
Лизавета. Хорошо. Ты бы не смог этого пережить. Точнее – продолжить жить. Для тебя вообще лучше – охранять свои информационные границы. Мир, суженый до размера любовника и френдленты. Георге, можно еще кофе?
Александр. Продолжай.
Лизавета. Тебе страшно?
Александр. Не по себе. Это очень простая история, но что-то в ней очень неправильно.
Лизавета. В ней правильно все. Только от этого тебе не по себе. Ничего не вырезано. Жизнь лис без купюр. Никакого лоска и глянца, старая жизнь не сведена до размеров прекрасной любви Ланселота. Иногда стоит просто посмотреть в окно, чтобы увидеть, как цепочка лисьих следов ведет прочь от дома в лес. И никогда нельзя знать, зачем они приходили к нам. Им не нравятся люди, но они приходят. Их ведет любопытство? Им – мертвым – так же, как тебе, хочется прикоснуться к чему-то другому. Вот и все. Это не то, что враждебно, это то – что просто находится рядом. Как кровь, – течет в невидимой для тебя близости к тебе. Это просто другая сторона, и ты просто не хочешь видеть.
Георге. Не расплескай.
Лизавета. Постараюсь. Продолжать?
Александр – вся его жизнь сведена к решению простой задачи – быть гением. В мире стеклянных небоскребов, отданных под офисы, мире прозрачной и красивой конкуренции, в мире бесконечного аттракциона – интеллектуальным правом и правом на жизнь – очень легко решать уравнение гениальности с одним неизвестным. Александр прославился, как кетаминовый фрик масс-маркета. Большие деньги ему приносят синяки под глазами и сильно выпирающие вены на запястье. Его шея пахнет «Gucci Black», его похабная и хтоническая готика хорошо продается. Он не тот, кто делает динь-динь на камеру, тайна его интимной жизни – не просто стремление к личному пространству, но маркетинговое предложение. Александр никогда не испортит себе имидж, собирая краудфандингом на новые рубашки от Лагерфельда или виллу в Исландии; он никогда не пожертвует в пользу голодающих Судана. Его последняя повесть – «Невесты Донбасса» – больно отозвались в жилах вселенной. Александру нравится быть непрощенным, но нельзя догадаться, как далеко он зайдет в следующий раз.
Лизавета. Против всеобщего заблуждения, жизнь женщины не сводится к поиску мужика. Конечно, жажда осеменения очень велика, но в то же время, оно пугает, и заставляет женщину искать других развлечений. Потому в тайных женских обществах, претворяющихся кружками по рукоделию или минет-коучингу, обучают и тому, как найти королеву лисиц. Многие женщины мечтают босиком станцевать перед ожившим трупом Маргариты. Женщин, конечно, очень возбуждает близость к олицетворенной смерти. Словно огромная богиня или даже принявший форму лисицы серп, Маргарита лежит в гнезде из костей – человеческих или лисьих – и зиянием рассматривает танцовщиц. Иногда женщинам позволяют плести царственный венок для Бледного Зверя. Обычно используют ядовитые растения и кости небольших птичек. Разрешаются колокольчики и красивые – с яркими фиолетовыми сердцами – цветы репейника. Репейником же можно облепить хвост Маргариты. Обычно женщины танцуют нагишом. Женщин пугает спать голыми рядом со своими мужьями, хотя мужчины и считают иначе. Иногда ты просыпаешься, и находишь эту штуку, упирающуюся тебе в позвонки, и понимаешь о мужчинах все. Но вот перед лисами у женщин нет такой стыдливости. А когда танец заканчивается, женщина встает на четвереньки, но не так, как перед мужиком, а опустив задницу ниже, чтобы лисы могли дотянуться. Женщинам нравятся шершавые лисьи язычки, и на удивление увесистые члены.
Раньше даже считалось честью подарить лисьей стае свое девичество, или даже понести от нее первенца. Сейчас, конечно, первые тридцать раз – вообще не считаются опытом.
Георге. Это не опасно?
Лизавета. Возбужденная женщина не знает, что такое опасность. Но, думаю, это опасно. Это как стремление стать лицом модного дома – так желанно, но при этом очень уязвимо к критике. Это как новая книга – всегда повод быть осмеянным. К счастью, танец перед Маргаритой едва ли угрожает женщинам стыдом. Могут случиться разрыв вагинальных тканей и смерть от обширного кровотечения или разорванное горло, но это, конечно, менее болезненно, чем ошибка, совершенная в простройке медиа-образа или неудачно данное интервью.
Александр. Так они совокупляются только с лисами?
Лизавета. Думаю, не только. Но лисы возвели совокупление с мертвецами в культ, а культ обратился в традицию. Как ты знаешь, кельтские жрецы во время инициации совокупляли овулирующую лисицу, и это символично означало совокупление с духами умерших. Я также знаю о женщинах, которые посвятили себя служению лисьим королевам. Их прельщала не только пляска, но и полная самоотдача мертвому чудовищу. Такие женщины оставались в норе навсегда, и постепенно слепли. В их обязанности входило обслуживание самцов, но большую часть времени они тратили на уход за королевой.
Александр. Думаю, достаточно про лис. Этого хватит на главу.
Лизавета. Еще кое-что. Центральный элемент лисьей культуры. Они называют это Погребенный Возлюбленный6. Об этом мне рассказали в одном из женских обществ, и я склонна верить, что это так. Лисьи королевы наследуют не только корону, сделанную из костей и бузины, но и сердечное чувство к некому Погребенному Возлюбленному. Иногда его называют Первый-из-Умерших. О нем все лисьи крики и ночные песни. Королева наследует платонического Возлюбленного, потерянного много столетий назад. Он – как бы любовник всего лисьего рода. И лисы верят, что много столетий назад, люди убили Возлюбленного королевы, и похоронили его в земле. Оттуда все это лисье мародерство кладбищ и – часто – некрофилические акты с человеческими мертвецами и этот некросадизм, когда грызут мягкие ткани. От злобы. Крохотные лисьи лапки роют глубокие человеческие могилы, и вновь не находят Погребенного Возлюбленного. Так что – от злобы. На этом все.
6. Конечно, как бы «Джекоб Блём»
Александр. Все это нелепо. Очень по-детски.
Лизавета. Это архаика. А она не склонна наслаивать смыслы. Ты просто ждешь чего-то эдакого, такого – не такого, как у всех. Но такое не может существовать. Все, что ты можешь изобрести – уже изобретено. Все, что тебе остается – переиздавать свои книги в покетбуках и в новых обложках под новыми название.
Георге. Достаточно жутко. Когда понятные вещи становятся внезапно другими – это пугает.
Александр. Не знаю. Это другой уровень, другая целевая аудитория.
Лизавета. Не бойся, Нобелевскую премию дают за совокупность. Если бы ты придумывал свои книги сам – думаю, они были бы как раз такими, как тебе хочется. Но тебе ничего не остается, как описать Маргариту. Думаю, Анна7 бежит из дома… внезапно. [7. Или [мареновая] Роза] Она почему-то поняла, что больше не может жить в ритме «входит-и-выходит», она понимает – с женщинами такое случается – что рождена для чего-то другого. Ее не волнует, что у нее нет денег, и что муж может броситься за ней в погоню. Возможно, ее пугает, что он как раз не бросится. Но это точка невозврата. Ей тридцать шесть, она верная жена, у нее нет любовника и подруг, и она больше не может. Она бежит из дома. И встречает Маргариту, мертвую королеву лисиц. Добавь к этому множество умных слов, покажи им торжество своей богатой фантазии, покажи им ризомы, ублажи их метатекстом, трахни актуальностью и чеканным стилем. Опиши, как мертвец насилует рыжую лисицу на излете осени. Начни с этого главу. Да, крупным планом – мужчина, бывший мужчина, мертвец – грузное чудовище с одним глазом, насилует лисицу. Опиши, как сокращается лисья матка, не забудь вкусное описание его оружия, все эти венки, драную шерсть на мошонке и все остальное – они это обожают; опиши, как падают осенние листья, они трахаются на повороте реки. Лисица опасливо озирается, будто боится, что их застукают. Мертвец опирается на руки, обломанные ногти. Начни с этого, а затем вернись к Анне-Розе. Покажи им контраст и язык насилия. Пусть монтаж произойдет в точке описания его лоснящейся кожи и описания того, как Роза-Анна гладит салфетки. Или манжеты его рубашек. Может быть, мертвец формами похож на ее мужа? Или она смотрит в окно – один случайный взгляд, прочь от рубашек и манжет – и видит, как мертвец и лиса? Я не знаю, придумай сам. Ты мастер чудовищного копирайта. Добавь несколько завуалированных цитат из Зюскинда и Рушди. Покажи им, что прочитал еще несколько высокоинтеллектуальных книг. К примеру, пусть лиса во время того, как в нее запихивают, цитирует список кораблей. Или Бахман? Да, пусть цитирует Бахман. А в конце главы не забудь дать зыбкий намек, что все аллюзии не случайны. Сделай вид, что так и задумано, что ты не просто грязный некрофил, смакующий темы гибели и пасмурного разврата. Пусть твой стиль будет таким, будто ты просишь внести тебя в букеровские списки. А я пойду прогуляюсь. Вдоль по улице. Там, за стеной – по улице мира, где не думают о смерти. Я выйду вон. И буду там, что ты так ненавидишь – в Гольфстриме человеческой жизни, обычной и банальной, где солнце плещется на витражах и огромные плазменные квадраты рекламируют Перье.
Она встает со стула. Мебель эпохи Тюдоров заставляет тебя понимать, что все, что делаешь – может остаться в веках. Мадам Бовари, Анна Каренина, Жанна д’Арк – все эти бессмысленные имена почему-то сохранены в контексте; Гретхен, Ева, Альбертина – и это они тоже; Шанель, Синди Кроуфорд, Ангела Меркель – и они… добро пожаловать, ничего не будет забыто. Даже если тебе захочется. Может быть, ты сможешь не вспоминать отвратительную резиновую сухость елозящего в тебе гондона, но кто-то обязательно вспомнит. Даже если однажды ты проснешься в сумрачном лесу – какая-либо случайная сплетня и контекстная реклама – расскажет о тебе его обитателям.
Лизавета идет по улице. Здесь и повсюду рекламируют утраченные, но вернувшиеся в моду 90-ые. VHS-кассеты, особый шарм потоковых кинофильмов того десятилетия, расцвет мыльной оперы и ее трагический конец на фоне бури столетия, все эти люди, поющие, играющие и говорящие – как бы все еще существующие в нашей памяти, полумертвые звиздули прошлого столетия, мальчик Кен, плачущий пластиком, по ушедшей волей маркетинга Барби к другой силиконовой блондинке, ленты Гаспара Ноэ с красивыми ретроспективами скотобойни, – 90-ые, десятилетие разнообразия и бесконечного эксперимента снова выкатило свои длиннорукие кофты на прилавки, кудрявые прически и сексуальность здорового женского тела. И в параллель им – книги Александра, фриковые звезды, переливающиеся на рулонах презервативов детского размера, современный кондом отпускается по достижению 13 в вагинальном и анальном варианте, туалетная бумага с растворимой втулкой – чтобы мужчинам не нужно было напрягать себя и нести втулку до мусорного ведра; мир, когда девушки 90-х возвращаются в беспощадной и злой пародии на самих себя, снова фотографируются неглиже, прикрыв сиськи умными книгами, – чтобы подчеркнуть процесс интеллектуализации, в котором они плескались все эти утраченные годы.
Ее ждала долгая дорога. Она смутно представляла, где и как повернуть, чтобы срезать углы. «Дом Сивиллы» попался ей по одной из множества ссылок рекламы по интересам. Кажется, раньше он действительно претворялся модным заведением для мистически настроенной молодежи, но сейчас приспособился к новым веяниям, и с легким кокетством обыгрывал свое прошлое. Теперь он – злачное фешенебельное заведение с мрачным сайтом-визиткой, где каждая девочка вела тематический блог. Общее настроение была желчным, очень снобливым. Эти девочки как бы утратили всякий вкус жизни, но были богинями понимания. Ничего не укрывалось от их высказываний: женщины, заполонившие личинками весь мир, быстроспускающие мужланы, многочисленные туристы с красноватой от воздержания спермой, нравственные священники с крохотными мудями, собачонки из глянцевых журналов, арт-выставки с глиняными пёздами на прилавках, китайская одежда, тротуары, магазины, мещанство, Библия, секс-шопы. Лизавете нравились те, кто умел приспосабливаться. Ей чем-то нравился Георге с его нескончаемой манией накопления: портфолио, фотосессий, онлайн-интервью, упоминаний в социальных сетях, побед в виртуальных конкурсах, ежеквартальных отчетов по продажам. Ему казалось, что все это как-то спасет его. Однажды. Ему казалось, все это зачтется. Георге из тех, кто боится ссорится с кем-либо, вдруг пригодится. Долгая привычка бесконфликтности развила в нем злокачественную доброту. Его страсть к значимости заставляла Александра продавать свои книги под тысячью разных названий всех возможных формат во всех существующих сериях, перевестись на все бесполезные языки мира, выступить на тысяче конференций, саммитов, открытых дискуссий, книжных ярмарках и фестивалей, – все, где хоть каким-то боком он мог пригодится, и там, где не мог, но выступал локомотивом малораскрученного дерьма, будь то ручные украшения, открытие концертных залов и мероприятий неясного направления, – конечно, ему следовало там быть; пусть даже его образ не разрушался, так как его речь и облик всегда отстаивали самобытность его таланта, от этой вездесущности, сам факт его существования стал малозначительным и каким-то контекстным, по умолчанию, ни у кого не вызывал сомнения очередной релиз его книги, но все же покупка этого релиза стала чем-то обязательным, тоже очень обычным. Ранее шокирующее в его текстах – стало глянцем черного цвета, не более, чем новым блюдом в рождественском меню. Его передачи на BBC, которая вначале транслировалась после полуночи и была как бы не про каждого, медленно сползала в прайм-тайм и множилась в количестве, так что, в конечном итоге, ее стало так много, что ни Георге, ни Александр не смогли контролировать ее содержимое, и она, как все остальное, стала дерьмом. Качественное мрачное дерьмо. Медленно обрывая острые углы, он стал глуповатым гением с шестью интервью в месяц, тремя ежемесячными колонками и ежемесячным спец-проектом. И если Георге никогда не испытывал панической страсти к пограничью и был вполне удовлетворен, то Александр, как и Лизавета, истинно возбуждались на фотографии обезображенных трупов и репортажи о чем бы то ни было отвратительном, и теперь – чувствовали себя кастрированными, когда их признания в этом перестали читаться до глубины, стали – прозрачными и формирующими новый жанр с тысячью эпигонов. Даже если ты получаешь больше всех повторяющих, ты – тонешь в их количестве. Ты перестаешь существовать. Ты уже не понимаешь, где кончается любовь и начинается блядство. Где твоя фантазия перетекает в потакание ожиданиям. Где начинаешься ты, и заканчивается твоя фотография. И что в твоем интервью – сказано новым словом и хоть как-то отделяет тебя от вчерашнего дня. Когда-нибудь ты перестаешь замечать, как один день превращается в другой. А когда-нибудь все исчезает. Это называется смерть, и тысячи литературоведов, изучающий твои слова, никогда не разберутся в твоих мотивах и телодвижениях; когда-нибудь – однажды – ты сделаешь такое количество дел, что их нельзя будет запомнить. Там – далеко впереди – тебя так много, что ты перестаешь контролировать каждую малость. И наступает – Всё, Аус, Беркенау, эндро морте унд э морте энд ля’морт…
«Дом Сивиллы» был не таким крутым, как хотелось. Очевидно, что все эти барочные арки и готический шпиль – слились в нем по какой-то случайности. Конечно, жизнь была блеклым зеркалом своей веб-визитки. Но все же Лизавета вошла, как и положено, она нажала на звонок, встроенный в пасть бронзового льва, и оказалась как бы снова у себя дома, в богатой богадельне с персидскими коврами и зеркалами в кованых рамах. Жизнь – очень нищенская вещь, и поэтому все же очень приятно, когда она обставлена богато.
Там, в зеркале, ей не было тридцати семи. Беременность почти не видна. Успешная вдова или женщина на огромных каблуках в царском офисе. Или художница, или жена художника. Острые черты лица, кокетливая анорексичная бледность, Дитта-фон-Тиз-нуво.
Лизавета. Девочка без большого опыта. Готовую рассказать свою историю, как в первый раз. Не потасканная на откровения. И выслушать. Дырка узкая. Страпон. Включая анал, оплата наличными.
Такая девочка нашлась на третьей этаже. Утраченная жизнь и заточение в башне. Здравствуй, моя дорогая, как же тебе хотелось, чтобы он любил твое страшное прошлое, прижимал твои холодные руки и целовал твои пальцы, как же всем нам хотелось – когда-то давно – отдавать то, что называется нежность, прижимать его большую голову к нашей плохо сформированной груди, целовать его большие руки от избытка благодарности. Теперь – ты проститутка. Не такая, как все, но проститутка. И у тебя новые фантазии: чтобы он взял твои холодные руки и целовал твои пальцы, вывел из башни, не позволил цветку завянуть для удовольствия, оросить своим соком больную почву одинокого и покинутого всеми посетителя, богато на отчаяние мужчины средних лет, здравствуй, забери меня прочь – по лестнице, ведущей из ада. Оплати мое время и целуй меня нежно. Целуй мое сердце навылет. Послушай, как крутится в глубине моих ребер – вентилятор колесе судеб. Как кровообращение больно жаждой любви – без всяких на то причин, в любви замечая зыбкость спасение.
Лизавета. Как тебя зовут?
Ее зовут Лиза. Другая зеркальная Лиза двадцати трех лет. Лизавете предстоит как бы изнасиловать собственное прошлое, а точнее – повторить его. Продолжить насилие. В этом закономерность Колеса Судьбы. В бархатной комнате бордовых обоев – разве не здесь оно проворачивает свои ржавые ребра, отвечающие за холодную меланхолию и разбитое девичество?
Лизавета. Меня тоже.
Лиза. Сразу?
Лизавета. Нет. Сядь на кровать. Положи руки на промежность, и задери голову. Гордо и томно смотри в потолок.
Лиза. Так.
Лизавета. Голову чуть набок. Да, хорошо. Говори негромко, с томностью, как в фильмах.
Лиза. Что именно говорить?
Лизавета. О своей катастрофе.
Лиза. Что именно?
Лизавета. Все и до конца. Ты была у исповедника?
Лиза. Да.
Лизавета. Точно так же, но без надрывной мольбы о прощении. Это черно-белое кино. Ты должна рассказывать так, будто знаешь, что тебе никто не поможет, но будто в тебе еще остались надежды.
Лиза. Так и есть.
Лизавета. Я знаю. Ты рассказываешь главному герою. Ты рассказываешь ему с ожиданием, что он полюбит тебя за твое страшное прошлое. Не смотри ему в глаза. Во время таких исповедей всегда стыдно и страшно, что тебя ударят в ответ
Лиза. Я убила свою подругу.
Лизавета. Не так. С начала.
Лиза. Мы с ней сдружились в школе, а два месяца назад у меня умер отец. Это был рак, но я не могла это понять. Мне было от этого холодно, и я не могла понять, почему именно осенью. Мне, кажется, было бы понятнее, если бы он умер весной. И может быть я с ней так сдружилась, потому что он умер. Я как бы чувствовала в ней возможность это понять. И это именно она научила меня мастурбировать по-разному. Это меня согревало. Не могу сказать, что думала об отце, но «тепло-холодно» было связано с ним. После школы мы ходили к ней, и она доставала ключ, и открывала дверь, мы шли в ее комнату и мастурбировали. А потом, однажды, она начала трястись, это был транс, и сказала, что это папа ее научил. Когда они ездят на дачу, он рассказывает ей, как дрочить. Но себя запрещает трогать. Она плакала, но беззвучно, и все повторяла, что каждую субботу он ей рассказывает что-то новое. Скоро в нее не влезет, и она обязательно умрет. Этих знаний становится слишком… ей. Слишком от того, как много она знает, но она не может не пробовать. Это слишком заманчиво. Она не может остановиться, не может рассказать маме, но кажется, она скоро умрет. Я обняла ее и сказала, что ничего страшного. Поцеловала ее в шею, и поняла, что это как бы мой отец через ее отца делает мне «тепло», я хотела узнать от нее все, я была ученицей ее отца, и не слушала, что в ней это не умещается. В меня больше не вмещалось горе, и я нашла, чем его потеснить. Я хотела, чтобы она продолжила ездить с отцом на дачу. Я находила множество слов изо дня в день, чтобы убедить ее – все хорошо, так нужно, папа тебя любит. Я знала, что что-то не так, но все это вырывалось из меня само, это была истинная и честная манипуляция, я должна была это знать. Однажды она повесилась. Внезапно. Как бы просто так. Наверное, ей стало слишком много. Она больше не смогла учиться. Она использовала его ремень. Помню, я подумала, что легкое удушение обостряет чувства. От этого может стать горячо. Очень горячо. То есть она сгорела. Я боролась с собой, чтобы не злиться на нее за смерть, и пыталась скорбеть по ней, но скорбела по прекращенным урокам. Мне ничего не оставалось, как пойти к ее отцу. Я не знала, что могла сказать ему, и попыталась соблазнить, одеться, как его дочка, стать ею, похитить ее жизнь, но он не реагировал, ему никто не был нужен, кроме нее, и учить своему тайному знанию он хотел только ее, а ее больше не было, и все знание умерло вместе с ней. Он не совращал ее. Он передавал сокровенные знания, он хотел ее блистательного будущего, он воспитывал в ней независимость – он слишком хорошо знал опасный мир мужчин, и пытался сделать ее самостоятельной. Но в выборе между отцом и его ремнем, она выбрала ремень.
Лизавета. Дальше.
Лиза. Ничего. На этом вся моя жизнь заканчивается. Я не получила ключа к независимости, и пошла по рукам. Во мне не было никаких удивительных знаний, чтобы влюблять в себя мужчин. И теперь я мечтаю, чтобы они любили меня просто так.
Лизавета. Был очень жаркий день. Почти полдень, в деревне. Это русский юг, а с Сашей мы познакомились в Москве, где он читал лекции. Мы выбрали друг друга взглядами, он мог это понять. Там, на русском юге, водятся гигантские мухоловки, разновидность сколопендр. От них почти невозможно спрятаться, летом они везде. Размером до семи сантиметров. Ты понимаешь, каково девочке остаться с ними наедине. Иногда ты просыпаешься от того, что одна из них случайно пробегает по твоей ноге. Будто пересекает горный хребет. Или видишь, как она ползет по подушке, извивается и трещит лапками. Это все, что я помню о детстве – гигантские мухоловки.
Был очень жаркий день, и я в ситце. Какая блеклость, какая затасканная история. Слишком много фальши, трагедия больше не выстреливают в нас. Я просто шла мимо этих домов, и мама с папой позади. Крыши, раскаленные крыши, и хотелось, чтобы пошел дождь. Высокая трава, с проплешинами желтизны. Обугленные круги солнца. Такое случается с множеством девочек, об этом не расскажешь. Он просто сказал, чтобы я пошла… наверное, была какая-то причина. Поедать землянику? Мне не более семи, я в ситце, и он держит меня за руку. Моя рука тонет в его, как в темноте. Большой мужчина. Псевдо-Георге, его предтеча, его очередное зеркало. Я знаю, что таких называют Безумными Королями – в Валахии им отстроены жертвенные холмы, их почитали убийством весталок, традиция поклонения их терновым бакенбардам – уходит очень глубоко. Это нарратив, от этого не уйти. Одно из искренних проявлений человеческой скорби – в фигуре огромного мужчины с рыжими бакенбардами. Джекоб Блём, так они говорят – Безумный Король прошлого и грядущего. Вечный возвращенец.
Это был какой-то старый знакомый моей мамы или нет. Все и всех когда-то видели – далекий юг, мухоловки. Он ведет меня за руку, чтобы есть землянику, МОЮ землянику. Мученик современности вынужден поедать собственные потроха. Он приводит меня в дом. И я понимаю, что это что-то неправильное. Я ничего не знаю о сексе, но я предчувствую его. В этой жизни должно быть что-то зловещее – и оно в этом мужчине. Его огромный торс наполнен тоской. Педофилия и насилие – не его природа, но деформация и социальное давление. Он хочет пасть так глубоко, чтобы наступила беспросветное молчание. Трахнуть маленькую девочку. Расширить ее горизонты, и чтобы она растеклась вдоль их линии, он хочет выпустить ее грязную кровь, растоптать земляничную поляну. Он идет на второй этаж, а я четко понимаю – что-то произойдет. И бегу через окно. Царапаю колено. Я не знаю, зачем мне бежать, но во мне чувство уже свершившегося горя. Кажется, все изменилось.
И тогда пришли Они.
Они всегда приходят вовремя – полдень ли или вечерний сумрак, они приходят на твои желания наблюдать. Горячая и сухая трава по колено маленькой девочке. Время как бы остановилась, и горе-насильник застыл в своем доме. Это поле сухой травы кажется бесконечным. Я вижу, как начинает зеленью отливать небо. Когда Они здесь – все немного меняется. Недостаточно сильно, чтобы каждый заметил. Это аура тревожности, подвижности воздуха. Реальность и ее отражение плотно соприкасаются, ты застреваешь в шве их стыка. Это Изнанка. Маленькая семилетняя девочка слышит, как шуршат мухоловки. Этот звук нарастает. И я вижу его. Он стоит на поляне. Пастух мухоловок. Франциск фон Офтендинген, торговец детскими тенями.
Вначале я вижу только его тонкие руки и распоротый шов вены. Шелестящие края раны, насекомых, снуют ИЗ – наружу, текут по его руке. Вижу колокольчик на шелковой белой ленте. Его пальцы невротично перебирают воздух, и колокольчик звенит. От этого звона воздух наполняется ирреальностью. Я вижу его ногти, изломанные и длинные, покрытые белыми царапинами, блестящие, зазубренные концы, и пальцы, и насекомых на пальцах. Черное шелковое платье пастуха-священника. И дальше его корону. Реальность комкается. Корона из папье-маше. Так мне кажется. Но потом я вижу тончайшие нити, покрывающие картонные зубцы. И понимаю, что это мухоловки. Кажется, их спрессовали в трехрогую корону, их цвет стал цветом ее бронзы, и тонкие лапки ворсом торчат во все стороны. Вижу, как он подносит руку к лицу и погружает пальцы в нос(?), и только потом я осознаю отсутствие носа. Упразднено с корнем, и трещины поднимаются вверх, режут кожу, и вниз к ампутированным губам. Идеальные зубы. Внечеловеческая красота. На пальцах остается земляничный сок, как будто нос выломали несколько минут назад. Глубокие глаза волглого кряжа. Вижу птичьи кости в его ушах. Мелкие птицы, обглоданные мухоловками до белизны. Лысый и коронованный пастух. Опускает руки и облизывает пальцы, влажными пальцами по кадыку, болезненно вдавливает его – так (теперь я знаю) ритуально приветствуют смертных жрецы трансгенитальной боли – ниже, шуршит по твердой накрахмаленной стойке черного «мельничного жернова», я вспоминаю гравюры Дон Кихота из папиной книги, славные рыцари на приемах с такими же красивыми ошейниками, оттягивает его и показывает открытую рану, цветущую вниз по его груди. Мухоловки. Длинные пальцы. Мертвый пастух насекомых шуршит туфлями на большом каблуке по скоплению их тел. Он служит в честь ржавого скрипа кармы, Колесо вышито на его робе, колокольчик звенит как проповедь.
Франциск фон Офтендинген. Она рушится…
Лизавета. …
Франциск фон Офтендинген. Карма рушится. Рвется в клочья.
Лиза. Я не понимаю.
Лизавета. Депрессия – это когда они проходят рядом с тобой. В непосредственной близости. С другой стороны. Они управляют нашими смутными тревогами, нашими историями, нашей духовной жизнью.
Лиза. Кто?
Лизавета. Иной Народ. Духи дхармы, ее воля, ее настоящее намерение.
Лиза. Я не понимаю.
Лизавета. Тебе повезло. Они стали моей поэзией, моей манией. И теперь я не могу быть понята. Я посмотрела в зеркало и узнала, что зеркала не существует. Летним днем мой шок расширил мое зрение. Я узнала изнанку реальности. Повернись. Я хочу начать.
Она пристегивает страпон, и берет Лизу. Та скулит. Лизавета прижимает ее к постели, ложится сверху.
Лизавета. Саша, обморок, я смотрю в твои окна, я ловлю твой снег, я преследую твои дороги, пару мгновений будто обычная девочка. Я пытаюсь говорить непонятно, я пытаюсь быть интересной, не такой, как все. Ты смотришь серо, я отвечаю поизощренней. Я выдумываю завихрения, я очищаюсь любовью от мертвых. Вот идет снег, мои плечи. Еще непонятней, я заворачиваю твое ненужное время в наши встречи. Ты не отказываешься. Я как бы готова все… В моих вьюжных снах ты греешь руки о мою грудь. В моей реальности я рассказываю тебе о моих видениях. О том, что стоит закрыть глаза, иное показывает себя из стен. И ты зовешь меня в Цюрих женой. Я становлюсь твоим текстом, твоей гениальностью, твоей черной невестой, исповедью поперек иконы… в стране, где мертвые катаются на лыжах с огромных гор, мы живем глупой студенткой-медиумом и нищим преподавателем. Повернись.
Вкладывает ей во влагалище.
Лизавета. Я диктую их в твою жизнь. Я надиктовываю свою любовь. Я говорю, что он поднял свою руку и поманил меня пальцем, я говорю, он заставил одну из мухоловок стрекотать по моей ноге, я говорю, что было жарко, что она проникла в меня. Я говорю, никакой крови. И даже кажется, что это сон. Но уже ночью я ощупала себя там и достала тончайшую лапку. Как на его короне. И это не сон. И он не сон. Так – моя любовь становится твоим текстом, я говорю о твоей гениальности, и с этими словами проходит моя любовь, ее все меньше, и вот конец.
Лиза. Ты ушла?
Лизавета. Нет. Я с ними. Мы вампиры-втроем. Деньги, слава и книги. Мы пьем кровь по кругу. Мы умерли давным-давно. Призраки 21-века. Брендовая одежда, проститутки, легкие наркотики, головокружительная карьера, страстная гомосексуальность, мебель Тюдоров, полный шик. Но мертвые больше не говорят со мной. Мертвые больше не говорят с ним сквозь меня. Мертвых больше нет.
Лиза. Почему?
Лизавета. Мы думали, мертвые отдали все. Но нет, мертвые – забрали. Нам больше нечем платить ржавой карме. Ее колокольчики теперь для других. Оденься.
Лиза. А что твой муж?
Лизавета. Он живет гениальностью, которой нет. Он – как все. Его глаза светятся пустотой. В них только его любовник. Жадный книгоиздатель и гений продаж. В них только – высушенная женщина, опустошенная фабрика его романов. Я бы хотела заламывать руки, я бы хотела трагедию, но нет.
Но больше всего я бы хотела, чтобы тот огромный мужик выебал меня по-человечески, и моя жизнь бы испортилась. Я хотела бы плакать, и чтобы он меня ебал до смерти. Чтобы он задушил меня. Пусть бы он утолил свою похоть моей крохотной писькой. И это было бы лучше, чем все, что сейчас…
…
Георге на презентации. Очередной презентации. Ей просто нужно занять чем-либо голову, пока идет по улице, поэтому она вспоминает ту презентацию со стороны Георге. Ему холодно от правды. Его гений – продается усилиями продаж. Каждый раз – новая трагичная история реализации, отгрузок, всепоглощающая печаль реальности. Лизавета отбрасывает эти мысли.
Свои планы.
Ее темная реальность больше не пульсирует.
Сегодня среда, время рассказать о беременности. Последняя сказка – о том, что мертвые вынашивают долго. Время течет иначе. Пришло и ее время, страшная мухоловка, тридцать лет. Но и этим планам не суждено сбыться. Лизавета идет туда, где кончатся Цюрих. Туда, на темную сторону улицы. Подальше от света фонарей. Потом – лисьими тропами. Она знает, что это некролог. Последнее письмо с того света. И ее мужчины никогда не узнают правды, но тысячи литературных призраков займут ее место. Она движется инстинктами – женская тайна берет верх – и идет туда, где правит Маргарита. Туда, где, как ей кажется, должна править Маргарита.
Вот так внезапно. Голый постмодернизм. Она обрывает всякие причины и оставляет ружья на своих местах. Многие женщины танцуют для мертвых. Время Лизаветы пришло. Это будут тяжелые роды, токсикоз уже вытравил из нее все человеческое. Ее пространство странных историй комкается, и небо отливает зеленым. Она помнит, как вытащила из себя лапку мухоловки. Помнит, как сидя на стуле эпохи Тюдоров, рассказывала о Маргарите. Помнит, что когда-то она любила его – там, может быть. И как он, может быть, любил Георге. Пока их не связали оковы этики и профессиональной лояльности. Мир дикой природы должен открыть Лизавете глаза. Мир, где женщины пляшут для мертвых. Там, у огромного дуба.
Но Цюрих все не кончается, и мужчины не узнают правды.
Среда. Город слишком разросся, у Лизаветы нет сил идти пешком, и она вызывает такси. Из окна – небо Цюриха. Она смотрит в небо Цюриха, и хочет увидеть птиц. Она думает о криках, которые издают лисы в период спаривания. Брачный сезон, вакхические танцы, течка, на снегу остается кровь, тень от деревьев, в свете ночника движение пальцев принимает облик медвежьей головы. Там, за окном – небо Цюриха, будто отпечатанный в одну краску типографский лист. Черная краска осенних туч.