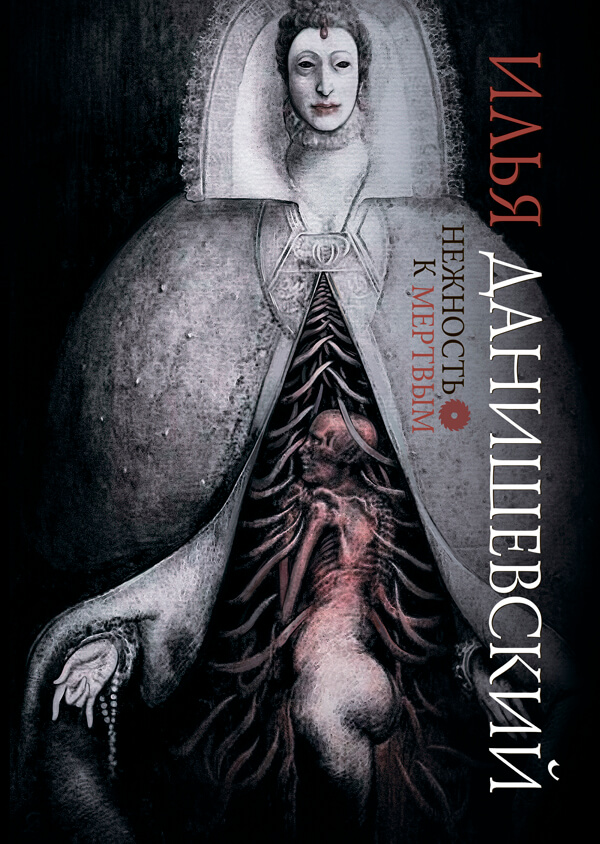Страница:
Пожалуй, толстяк живет так успешно лишь оттого, что не знает о том, что тело его состоит из песка, деньги его пахнут потом, а дыхание – пепел. И сила его незнания так глубока, что Альбертина не сможет ему рассказать. Ведь никто не верит в слова больных. А потому – больным не следует разговаривать со здоровыми. Альбертина предпочитает молчание, и это молчание стало главным достоянием ее семейной жизни: толстяк ищет в ней тайну, но тайна эта в безразличии – Альбертине нет разницы, кто пробует ее на вкус и кто оплачивает ее болезни – но мужчины слишком любят свою рыхлость, чтобы додуматься до такого.
Стоит выйти наружу, в настроении внезапная перемена. Омерзительный куб давит на нервные окончания, не дает им солнца. Еще вчера Альбертина сказала бы, что ненавидит лестницы, как много на них ступеней, и никто не знает, как трудно заставить себя сделать шаг, как трудно иногда просто найти мотивацию подняться с холодного пола и сделать шаг. Но сейчас ненависти нет, все эмоции отступают достаточно быстро. Альбертина не умеет удерживать их в себе, не умеет растягивать или превращать в чувства. Как пришло, так и уходит. Она знает о глупости эмоций, но иногда подвержена их. По утрам ненавидит толстяка, а уже в обед лишь фактом помнит о ненависти и о том, как он храпит, как его дыхание преграждает дорогу снам, и каждое утро она громко думает, чтобы он умер, но ей не хотелось бы, чтобы он знал об этом, ведь она все понимает, Альбертина все понимает, все его хорошие качества – объективно приятные для ее болезни – и что на самом деле она не хочет, чтобы он умирал. Может, ей безразлично, и она ничего не почувствует, когда это случится, но она не желает, чтобы это наступало немедленно… она вообще ничего не желает прямо сейчас. Но иногда ей хочется, чтобы в лестнице было меньше ступеней, чтобы от жизни Альбертины требовали еще меньше, чем требуют. Пусть больше не говорит про пепел, у нее нет сил собирать его с пола, да и совсем незачем, ведь завтра будет новый пепел. Но сейчас ей не хочется даже это, все ощущения отступают достаточно быстро, чтобы предавать им значение. Если бы зашел разговор – Альбертина бы многое могла рассказать о своих минутных желаниях, она рассказывала бы досыта, ведь разговор такой же никчемное дело, как, скажем, написание книг, и требует от Альбертины так мало. Она сказала бы, что желает синих стеклянных камушков, именно камушков, стеклянных, большое чучело альбатроса, что хочет мировую известность, хочет пройтись по самым известным улицам мира… нашлось бы много, чего Альбертина могла желать. Но все это не нужно ей, а жизненных процесс устроен таким образом, что ей незачем говорить. Хорошо. Больные не понимают здоровых в той же мере, как и наоборот. Альбертине удобно называть свое состояние недугом, но это неправда. У нее не бывает головных болей, но она говорит, что у нее постоянная мигрень. Это удобно. Иногда так хочется удобства и тишины. От голосов Альбертину бросает в усталость, ведь каждому известно, что кто много болтает – тот рано умрет. Альбертина чувствует этот закон, и поэтому говорит мало. В ней слишком мало соков, чтобы проливать их при разговоре.
Сегодня лестница показалась ей не такой уж и длинной. По-крайней мере не такой длинной, как обычно. В Альбертине хватит мыслей, чтобы коснуться всего и покрасить это все в свои цвета. Это называется желчью, но имеет другую природу, нежели желчь других. Альбертина искренне считает каждый факт, каждую вещь и каждое биологическое существо ненужным и лишним на празднике смерти. У нее достаточно доводов, чтобы рассказать, почему собаки противны природе. Однажды она говорила с мужем об этом. Но он не понял, хотя все так просто. Ему никак не уяснить, что Альбертина презирает все, что пытается изображать какие-то духовные привязанности, ведь Альбертина знает, что привязанности просто вопрос привычки, просто привычка ума, Альбертина почти уверена, что душа, если она и есть, не нуждается ни в чем, кроме себя самой; Альбертину раздражает в собаках их нарочитый и театральный фарс. Альбертина сказала, что собаки – проститутки самого низкого толка, а он только грустно покачал голой и ничего не понял.
Скоро мужчина вернется. Обычно мужчина хочет, чтобы его встретили с распахнутыми ногами. Пусть женщина обовьется вокруг, пусть мохнаткой протрет горести, вберет белые мужские слезы. Но у Альбертины все иначе, наверное, ей повезло. Он только спрашивает, как она провела день, и слышит, что она спустилась в подвал, а затем поднялась обратно. На этом все. По его лицу размазана улыбка, десны должны кровоточить от услышанного. Он берет себя в руки и спрашивает, готова ли она, мол, ты ведь помнишь, не так ли, и суфлирует, что сегодня вечером идем в гости, вечернее платье, чулки, ты ведь все помнишь, Альбертина. Конечно же. Она сумела подняться из подвала, а затем день куда-то кончился, иногда не остается сил, чтобы чем-то его заполнить, или не хватает сил станцевать запланированное. Альбертина покорно надевает чулки, она знает, что для толстячка это важная встреча, подумать только, ужинать с хозяином автобуса и его миленькой женой, обсуждать большую политику – но только по краю, ведь не гоже лезть глубже – движение небесных светил, и расхваливать стряпню женушки большого начальника. Конечно, она помнила об этом, Альбертине нечем занять себя, она помнила об этом… на улице люди смотрят, как ее ведут под руку, смотрят на сапфировые серьги в ее ушах, какая красота(!), завораживает, как массовое самоубийство. Девочка играет с щенком. Альбертина молча разглядывает тонкие руки, дешевое платье, виляющий хвост, и муж одобрительно улыбается ее молчанию. Он никогда не запрещает ей говорить, но иногда ему приходится плакать от сказанного. Бедный мужчина, он ощущает себя мучеником и заложником Альбертины, по воскресеньям ему кажется, что он главный герой молебна, ведь только ему достался столь непонятный крест; конечно, это подбадривает его мужское достоинство, и мужчина передергивает его в обеденный перерыв; мало кому дается такое счастье – мастурбация на образ собственной жены. Мало кому повезло так, как этому водителю автобуса – он ведет Альбертину, породистую суку местного разлива, случиться с которой хочет любой; какие все же красивые сапфировые серьги в ее ушах, как повезло Альбертине (!) – любимая теща превратилась в сапфировые серьги. Вот улица кончается, наступают ступеньки, ее муж самодовольно стучит в дверь. Ему так приятно посещать чужие дома, когда рядом Альбертина – диковинное животное, да-да, с юга Африки, безумно редкий товар.
Наступает пора приветствий. Истеричных заигрываний, кокетливых поцелуев. В дверях моложавая, но за шестьдесят, одета со вкусом, и ее муж, трахающий молоденьких без оглядки на вкус жены. Альбертина не может запомнить, как зовут эту женщину – это не важно – ведь такие ужины случаются раз в миллениум, большой начальник угощает ужином своего лучшего работника. Толстяк постарался: выскулил премию, выскулил ужин.
Большой начальник. Альбертина! Вы обворожительны!
Альбертина. Это пионы.
Большой начальник. Я про серьги.
Альбертина. Но вы смотрите на чулки. Это пионы. Ручная вышивка.
Женщина. Она у вас такая бойкая! Рада вас видеть!
Альбертина. У него. Да. Вы хорошо подмечаете нюансы.
Муж. Ох, Альбертина… Добрый вечер.
Женщина. Ну входите же.
Альбертина. Куда мне сесть?
Женщина. Где будет удобно. Сегодня прекрасный день, правда?
Муж. Да. Это свинина?
Большой начальник. С фермы.
Альбертина. Прямо с фермы?
Большой начальник. Конечно!
Альбертина. Я предпочитаю жареное.
Муж. Сколько тебе? (но Альбертина отмахивается)
Стол в дорогой комнате. Все обставлено по вкусу жены начальника, ей больше некуда выплеснуть свое горе. Целыми днями она носится вдоль линии комнат, чтобы уничтожить даже намек на пыль. Альбертина знает о ней все. Трудно не знать. Обширные люстры, на столе сервиз «Мадонна», разве что-то остается неясным(?), кажется, вся реальность этой женщины сейчас лежит на поверхности этого стола. Но стол находится в дорогой комнате, а значит, у женщины нет выхода.
Муж. Сегодня утром, на *** сел мужчина, а на остановке забыл портфель…
Женщина. И что же было?!
Муж. Вернулся, наверное. Завтра узнаем.
Большой начальник. Верные слова. Завтра! Вот почему я так вами доволен, вы всегда знаете, что завтра выйдете на работу. Наверное, вам это в радость. Альбертина, о чем вы задумались?
Альбертина. Ни о чем.
Большой начальник. Женщине это можно.
Альбертина. Вы хотите сказать, что женщине вовсе не стоит думать?
Женщина. Конечно, нет! Дорогая, он имел ввиду, что женщинам иногда позволительно отвлечься от мужской беседы.
Альбертина. Понимаю. Позволительно. Но дело в другом, некоторые мысли непозволительно высказывать вслух.
Женщина. Бросьте! Здесь все свои. Говорите.
Альбертина. Я смотрю на свою тарелку. Два кусочка мяса. Кажется, им так одиноко, вы не находите?
Женщина. Мечтательница!
Муж. Она пишет книги.
Большой начальник. Правда? Какие, Альбертина? Почему мы еще не читали вас?
Альбертина. Мой муж слишком занят завтрашним днем, чтобы знать, чем я занята. Я не пишу книг.
Женщина. Так что с мясом? (следует спрятать беседу от потаенных углов)
Альбертина. Ему одиноко. А я слышала, что в цивилизованных странах к свинине подают гарнир.
Муж. Альберта…(шепотом)
Женщина. О, как метко, сейчас-сейчас…
Она выскальзывает из-за стола и убегает, наверное, пытается отыскать кухню. Начальник откланивается, чтобы помочь ей. Наверное, большие пионы, ручная вышивка, на ногах Альбертины так подействовали на него, сейчас, как гарнир к этому виду, пойдут и сальные скучности жены, прижав ее к духовке, он проникнет в нее сзади. Такие мужчины, залысины и серьезные глаза, слишком падки на дешевые аттракционы, так же легко они забываются и в утешении. Нужно впиться в родной пиончик.
Муж. Альберта, я прошу тебя…
Альбертина. Я не сделала ничего, чтобы говорить со мной в таком тоне. Я не сумасшедшая, убери свою вкрадчивость.
Муж. Сделай это ради меня, один раз.
Альбертина. Я уже это слышала. В брачную ночь ты захотел в задницу.
Муж. Альберта!
Альбертина. Что? Я понимаю то, но не понимаю этого. Не понимаю твоего страха говорить об этом. Но в этом было больше простора. Мало кто остается девственницей после брачной ночи, это открыло мне новые горизонты.
Муж. Я люблю тебя, и ты это знаешь.
Альбертина. К чему это? Я не могу их терпеть. Особенно, когда они нарушают собственные правила. Если большой начальник слюнявит мне щеку, пусть его жена подает мясо с гарниром… я так устала. Жаль, что ты не можешь этого понять.
Муж. Ты ничего не делала.
Альбертина. Я же сказала, что мне жаль. Ты не можешь этого понять. Мне хочется смотреть в небо, и чтобы плыли облака, а потом началась гроза. Пусть будут молнии. Я хочу никуда не двигаться, и чтобы мое тело не испытывала холода; я хочу наблюдать за своим телом издалека. Но я не хочу быть здесь. Никогда не хотела ничего подобного. Эти диалоги написаны плохим драматургом, пьеса о жизни праведных бюргеров с трикстером в исполнении Альбертины. Я не могу выдохнуть… который год не могу, и который год ты не можешь этого понять. (но при этом она знает, что диалоги эти и не могут выстраиваться иначе, что реакции предсказуемы, и столь же картонны, пусть и исполнены более пафосно, под Шопена, с органом и струнными. Она пишет книги, о да. И все спросят какие. О проститутках, господа. Смущение. Пауза. Большой босс трактует намеком. Но никаких движений и перемен. Альбертине привычнее редуцировать лишнее)
Муж. Я принимаю это.
Альбертина. Давай помолчим.
Муж. Я тебя люблю Я хочу, чтобы ты помнила об этом.
Альбертина. Зачем?
Муж. Потому что это меняет все.
Альбертина. Это ничего не меняет. Это просто твои чувства. А моя невозможность – это мои чувства. Но ты почему-то считаешь, что твои должны как-то влиять на мои. Но ты беспомощен в этом. Ты просто обожаешь себя за эту любовь, и считаешь, что все должно быть по ее воле, но любовь не имеет значения в этом случае…
Муж. Она всегда имеет значение.
Альбертина. Кроме подобного. Иногда она досаждает мне; то, как ты трясешься над ее наличием, ты боишься потерять любовь больше, чем меня. Но это тоже неважно. Она досаждает мне своей неважностью в моем вопросе и тем, что ты этого не понимаешь.
Муж. Но…
Альбертина. Если твоя любовь так хороша, почему ты не спасешь меня?
Муж. Я пытаюсь…
Альбертина. Давай помолчим.
Муж. Нет…
Альбертина. С меня хватит!
Она встает из-за стола, смотрит в глаза мужу, сказать ей нечего, сколько лет можно говорить о чем-то, что не имеет значения? Нет никаких эмоций от таких бесед, и нет никаких следствий, их не может быть. Их придумывают женщины, пишущие сентиментальные романы. Этих женщин кусают за половые губы, и они выдумывают иные плоскости. Но на самом деле разговор не имеет значения. Случается такое, что и любовь не имеет значения. И что первый раз у Альбертины был в задницу. Все это лишнее. Это просто шум в ее воздухе. Она идет к выходу… пусть он скажет, что у нее болит голова, ведь все знают про мигрени Альбертины, про ее своенравный характер, но никто не знает про лживость ее колкости: сентенции всегда рождены пустым сердцем. Софизм – хорошая и правильна форма беседы, но Альбертине не нужен диалог, поэтому она отрицает даже эту идеальную его форму.
Муж. А ты любишь меня? Хоть немного.
Альбертина. Это ничего не меняет, но почему бы и нет?
Женщина. А вот и гарнир! Альбертина!
Альбертина. Вы должны меня понять, как женщина женщину. Очень сильные боли. Лучше в ванну, и накрыться одеялом.
Женщина. О, конечно.
Дни цветущих пионов. Альбертина знает тысячу наречий, язык каждого жителя города. Миллионы бессмысленных волн текут от нее к их ушам, она всегда на гребне их понимания.
На улице Альбертина сгибается в пояснице от приступа удушья. Это называется пониманием вины. Но ничего уже нельзя сделать, ведь больные не могут предотвратить проявление своих болезней; Альбертина в чувстве вины, чувстве удушья, чувстве минутного раскаяния, которое вскоре пройдет, и наступит длинная менопауза холода. Вокруг будет город, все такой же нестройный, как тонзура в окружении кладбища, выбритая пустота, призванная обеспечить удобство; в городе живут люди, прячущиеся от правды и желающие скоротать свое время внутри выбритого полиса, а потом спрятаться в густом кладбищенском лесу, люди так мечтают, чтобы ничто не тревожило их ожидание смерти; вокруг в серости и никчемности растут из земли социальные институты и религиозные дискуссии, интеллектуальные умы скручиваются и вращают телами, как аскариды, их накачанные знанием мускулы ощущают свое могущество; под городом, как кровь, темная и неясная мякоть человеческой природы дает и будет давать о себе знать кровавыми цунами, чудовищными похищениями младенцев, женоубийством и прочими глупостями; завтра и послезавтра город будет таким же, как и сегодня, украшенный новыми гирляндами и проталкивающим сквозь свои улицы новых людей. Прямая кишка сокращается, добиваясь пустоты, Альбертина выдыхает сострадание к мужу и принимает прежнюю форму. Больные вынуждены добиваться безопасности своими, только больным ясными методами. Альбертина идет по городу. Она давно не ждет никакого бессмысленного понимания, даже если оно случится, – ничего, кроме временного понимания не появится в жизни Альбертины. Если она испытала минутную жалость, то лишь от того, что в ней все еще существуют надежды. Как и все остальные, Альбертина чего-то хочет, и ее отличие от других – понимание социальной небезопасности и бесполезности человеческой свободы. Понимание в этом веке – болезнь ума. Понимание города со всеми его темными пятнами, замкнутого в трех измерениях, изведанного во всех направлениях, с человеческими сколопендрами, сегменты тел которых изучены чьими-то пальцами и языками, чьи внутренности прочесаны членами и фалангами. Мужчины, идущие по улицам города, не предлагают своим женам анальный секс, потому что «так нельзя», но анально проникают в проституток и тех, кто встречается им на обочине. Мужчины, идущие по улицам города страдают мизогинией потому, что женщины достойны ненависти. Женщины, идущие по улицам города, готовы платить своим телом за легкие деньги. Женщины и мужчины, идущие по улицам города, считают себя единственно достойными счастья, неоцененными вселенной и униженными. Альбертине давно не жалко людей, они стоят ровно столько, сколько готовы за них предложить: четыре пфеннига за глубокий минет.
Альбертина идет в сторону вокзала, и вокруг нее мир, который понятен уму Альбертины. Мир и его жители, желающие добиться права голоса, вето, свободы и понимания, выгодных инвестиций и гарантов безопасностей, удовлетворения потребностей, удовлетворения чрезмерностей, детальности и сладострастия, желающие вначале своих невест, а затем чужих жен, разочарованные в настоящем и обналичившие прошлое, живущие от перемены до перемены, замкнутые в социальные институты, примыкающие к политическим партиям и религиозным идеям, чтобы закрыться моральными нормами и получить одобрение духовника, чтобы заплатить свою цену и пожать крамольный урожай, желающие вырваться из устоев и обрубить корни, и напоминающие о корнях и устоях, ради сохранения эмоциональных привязанностей, разложившие вселенную на «да» и «нет», редкие избранные, осознающие свою гениальность в разговоре с медузами и в кокаиновом трипе находящие тайные знаки, учителя и гуманисты, и оппозиция дегуманистов и развратителей, сталкивающиеся волнами и в дуэли ради собственной правды и защиты индивидуальной правды, оправдывающие нищету и возводящие ее в индульгенцию, – текли по улицам мимо Альбертины. А если кого-то из перечисленных не было, то Альбертина знала, что они все равно существуют. Где-то в своих домах они сколочены в группы и ненавидят. Они бьют своих жен, чтобы те вобрали ударами истину. Они насилуют своих дочерей и прикасаются к прекрасному. Местечковые поэту спорят о направлениях. Каждый защищает территорию, свои ничтожные садовые угодья, а затем в какую-то минуту рвутся на всех порах к новым угодьям и новым ценностям, каждый имеет свое мнение на тему Альбертины, ведь мнение – очень важная валюта для тех, у кого не хватает денег купить голоса. Вокруг бушуют мнения, разделенные на «приличные» и «нет», и у паств двух этих мнений есть мотивы исповедовать их; вся эта жизнь должна быть под завязку забита сомнениями и знанием о правде, чтобы хоть какая-то дорога сохраняла очертания. И именно поэтому идущие мимо Альбертины так боятся первобытных матерей и цепнях псов, подлунных скитальцев и Безумного Короля, боятся невидимых пальцев иного мира, который иногда вторгается
и происходит минутное столкновение с тем, чего не могут осмыслить моральные категории. Первобытное зло, наделенное лицом сладострастной педофилии (которое совсем не то, как у тех отцов-с-дочерьми), вычурная романтически-выгнутая некростенция, теплая шелковистая ткань любви к внутренностям… Альбертина могла понять эти влечения, и потому Альбертина была больна. Могла осознать, что толкает убийцу на совершение хладнокровного убийства, и даже не могла осуждать его, как понимала и не могла осуждать боль и негодование родственников убитого. Она могла это вобрать в себя и могла объяснить тем, кто желает услышать, но желающие не рождены. Все ведь достаточно просто. Но люди, поставившие на колени мораль или поставленные моралью на колени, не могут вобрать и потому правильно оценить существование тех, кто никак не приложен к морали, кто чужд ей, то есть – болен. Заключенные в клиниках, утопленные толпой, живущие в темноте и придавленные массивом города, – это их кровь течет под цивилизацией, невидимый поток и страшная язва, именно их дыхание вызывает коровий мор, их движения оставляют колдовские круги, живущие вне дороги, – являются причиной появления городов. Так Альбертина, уничтожающая жизнь своего мужа, заставляет его чувствовать свою жизнь и бороться за нее; так он борется с Альбертиной, но знает, что полное уничтожение ее, изгнание за границы своего города, приведет к исчезновению города, уничтожению жизни, и потому он – бездеятельный, но противостоящий Альбертине – не двигается с места и ничего не предпринимает. Он живет с больной, и потому знает о своем здоровье.
И вот – перед лицом Альбертины раздутое, даже опухшее тело цивилизации, единственная задача которого – всеми силами своего многообразного инструментария каждодневно не задумываться о целесообразности собственного наличия.
…
Вот и вокзал, Альбертина покупает билет на поезд. Она взволнована и на то есть две причины. Первая – она не так уж часто сбегала из дома, чтобы перестать опасаться новизны. Вторая причина – сам вокзал, ведь вокзал это всегда преддверие Большого Путешествия, всегда шанс и опасность неведомой встречи, где, как ни на вокзале стучит женское сердце, а женские глаза ловят случайные взгляды(?), кому, как ни поезду, сталкиваться с неведомым; ему, пересекающего магистрали мертвых, ведомы многие направления, стоит машинисту отвлечься хоть на мгновение, и жизнь пассажиров может кардинально изменить курс. Большое Путешествие – двоякое чувство. Оно дарит воздух, а затем отнимает его подчистую. Это как ссуда, нужна огромная решительность, чтобы доверять Большому Путешествию; решительность или меланхолия, что, в центре, суть одно.
Вагоны комфортабельны, и их конструкция никак не напоминает темные материи, эмпирии скрыты железными крышами, а постоянный сквозняк уничтожает запахи прошлого. В поездах случается множество преступлений, видимо потому, что паника от Большого Путешествия расширяет какие-то особые векторы внутри, а все потаенное обнажается от быстрой езды. Поезд едет сквозь множество городов, и, конечно, никто не выходит на этой станции, все двигаются дальше, и когда Альбертина входит внутрь, она видит, что всюду сидят мужчины, соседство с которыми опасно для мыслей, и только одно купе занято одинокой женщиной. На Альбертине чулки с пионами, и сегодня ей нет дела до кокетства, она выбирает безопасность женской болтовни всем остальным возможностям. Пожилая женщина в желтом жакете, солидная учительница, у которой проблемы с щитовидной железой. Она читает книгу, но как только появляется Альбертина, откладывает, ведь книга совсем не то, на что порядочные люди должны тратить время при наличии альтернативы.
Пожилая женщина. Я была у своего сына, недавно он женился, а сейчас возвращаюсь обратно. Это такая славное чувство, когда понимаешь, что все сделанное – верно, будто бы реальность, которая на минуту отклонилась от курса, была возвращена мною на место.
Альбертина. Как любопытно.
Пожилая женщина. Конечно, так. У старых людей и не может быть другого удовольствия, но сейчас вы скажете, что я не так уж и стара, правда?
Альбертина. Зачем же? Я не опровергаю правду.
Пожилая женщина. Я вижу вы расстроены. Иначе бы говорили иначе. Куда вы едете?
Альбертина. Расстроена? Пожалуй, нет. Я не расстроена, ведь это – просто нарушение ожиданий. Ничто не нарушало моих ожиданий и не обманывало меня, скорее иначе, все идет именно так, как я предполагала. Но я не могу радоваться той реальности, которую вы возвращаете на место. Я ушла от мужа, а теперь еду вперед в ожидании, что он вернет меня. Это не романтическое ожидание. Оно тревожно. Это не то, чего я жду, но то, что я безразлично ожидаю.
Пожилая женщина. Вы уверены в его любви.
Альбертина. Да. Его любовь – это стремление к простоте. Его любовь сама простота. И чтобы не нарушить этого, он вернет меня обратно. Я не его ценность, и он не видит меня вещью, как бывает. Меня должно бы радовать это, но я нахожу другие причины для грусти. Его стремление к упрощению возвратит меня. Иногда люди живут слишком долго в одинаковом ритме, чтобы решиться на прочее.
Пожилая женщина. Это и есть любовь.
Альбертина. Если избавиться от романтической окраски слов, именно так. А как ваш сын?
Пожилая женщина. Пытается идти путем вашего мужа. Но его жена. Она любит его слишком сильно, точнее, показывает свою любовь больше, чем прилично. Это приводит к дурному. Я объясняла ей, как обращаться с мужчиной, ведь первые месяцы люди объясняют друг другу, как будет протекать будущее, а затем лишь живут повторением этих месяцев.
Альбертина. А если она не хочет этого?
Пожилая женщина. Она не может не хотеть жить так, ведь она вышла замуж.
Альбертина. Значит, ее счастье невозможно? И вы считаете ее непригодной к счастью?
Пожилая женщина. Вы говорите так, будто видите счастье в чем-то другом.
Альбертина. Я не вижу его.
Пожилая женщина. Вы говорите так, желая привлечь внимание к тому, что здесь и сейчас вы несчастны. Я понимаю это удобство. Вы сетуете на несчастье, чтобы оно было тотчас разбито, ведь несчастье изнутри – ощущается состоянием подготовки к выходу из несчастья.
Альбертина. Я о том несчастье, которое наступает после этого состояния. Когда долгое ожидание не отыскало завершения. Несчастье, следующее за этим, придуманным несчастьем.
Пожилая женщина. Нет такого несчастья.
Альбертина. Как не существует той необходимости, какой вы нагружаете свою невестку.
Пожилая женщина. Я нагружаю ее лишь тем, что пригодится в пути. А вы говорите о состоянии, которого не существует, и к которому, будто бы, причастны только вы. Вы считаете себя особенной, как и все женщины, и когда мир не ощущает вашу особенность, чувствуете горе. Но стоит вам принять свою обычность, и все несчастье исчезнет. Ведь вы даже не знаете, почему ощущаете свою особенность.
Альбертина. Если ни вы, ни кто другой не может понять моих слов, значит в моих словах есть что-то неподвластное вам, и значит, я с ними наедине, то есть мои слова особенны и чем-то отличаются от всех других слов.
Пожилая женщина. Или в ваших словах нет смысла, а люди привыкли обмениваться совсем не словами, как вы думаете, а смыслами, которые обличены в слова.
Альбертина. Значит, вы видите какой-то смысл?
Пожилая женщина. Множество смыслов. И жизнь, как передвижение от одного смысла к другому. Старость же я вижу славным временем объяснять другим эти смыслы.
Альбертина. А если я – не двигаюсь?
Пожилая женщина. Значит, вы просто не хотите замечать своего движения.
Альбертина. Мы ведь обе находим бесполезность этого разговора?
Пожилая женщина. Только вы.
Альбертина. А какой смысл ВЫ видите в этом?
Пожилая женщина. Я четко знаю свое направление, и понимаю, что не все вещи претендуют на важность, но и в них, этих малозначительных вещах, скрыто свое удовольствие. Смысл этой беседы – в уничтожении времени, потому что время это я должна провести в поезде.
Альбертина. Но у вас есть книга.
Пожилая женщина. И она останется у меня завтра, а вы уже ускользнете. Это называется приоритетом. И его понимание – важная черта семейной жизни. Я ездила в гости к сыну, чтобы объяснить невестке это простое правило. Она не имеет права читать книги, пока не приготовлен обед. Ее обязанности священны. И только когда святость завершена, она может позволить себе развлечение. Но и развлечение должно быть завершено, когда наступит время завершенья. Нельзя позволять себе слишком много.
Альбертина. Но если она не хочет готовить ему обед? Что, если она не считает, будто в ней для этого достаточно мотивов?
Пожилая женщина. У нее есть мотив. Этот мотив называется здравый смысл. Ведь если она будет читать по одной книге в неделю, вместо семи, но не спровоцирует мужа на убийство, к концу жизни прочитанных книг выйдет больше.
Альбертина. Как любопытно. То есть, она обязана из страха смерти, из страха перед той смертью, которую вы одобряете?
Пожилая женщина. Не одобряю. Но если муж убьет ее, бедняжке уже не поможет мое негодование. Ей уже ничего не поможет, ни ваше возмущение, ни раскаяние мужа, отповедь священника и даже черви в земле ей не помогут. Это опасное время, и мы должны это понимать. Следует спасать себя от всех возможных угроз, то есть – выполнять свой священный долг. Это непреложный закон, и он требует, чтобы женщина готовила обед, а в отведенное время отдавалась мужу ради зачатия потомства.
Альбертина. А если она считает это бессмысленным?
Пожилая женщина. Она может считать так, как ей угодно. Но если она не сделает этого вовремя, ярость ее мужа будет расти, а когда дойдет до краев – выплеснется на нее. Она должна родить из страха.
Альбертина. Тогда зачем выходить замуж?
Пожилая женщина. Из страха.
Альбертина. То есть, страха избежать нельзя?
Пожилая женщина. Дорогая, я каждый час боюсь, что мое сердце остановится от старости.
Альбертина. И я не вижу в этом ничего дурного. Если ваша жизнь состоит из обязанностей и страха, то смерть будет просто прекращением этих обязанностей и страха.
Пожилая женщина. А моя Эльфрида? Ей всего двенадцать, и она – уже порождена мною из страха перед мужем. Что будет с ней? Сейчас, если бы я могла, прервала бы свои обязанности до первого ребенка, но в том возрасте у нас еще нет понимания, а теперь – я мать, и живу ради своих детей. У вас есть дети?
Альбертина. Нет.
Пожилая женщина. Тогда все ясно. Ваша печаль – продукт скрытого гнева того, кто не получил от вас наследника.
Альбертина. Я не думаю, что так.
Пожилая женщина. Мысль – просто продукт вашего восприятия. А я говорю о факте.
Альбертина. Но вы не можете знать факта.
Пожилая женщина. Старость всегда знает факты.
Альбертина. И вы живете, чтобы донести эти факты Эльфриде, чтобы та в свое время так же задумалась о смерти и невозможности умереть лишь потому, что вы внушили ей эту невозможность.
Пожилая женщина. Эльфрида не умрет лишь потому, что будет любить своего ребенка.
Альбертина. А если нет?
Пожилая женщина. К счастью, это невозможно. Я пресекаю в Эльфриде всякие зачатки такой, как вы.
Альбертина. Это не так. У меня нет зачатков. Это клиническая депрессия. Приходит из ниоткуда, и не уходит никуда.
Пожилая женщина. У всего есть начало. Однажды Эльфрида опоздала на обед, я ждала ее пятнадцать минут, и когда она вернулась, то рассказала, что танцевала с феями. Я подумала, что ее изнасиловали, и выпорола ее…
Альбертина. Вы выпороли ребенка за то, что ПОДУМАЛИ, будто его изнасиловали?
Пожилая женщина. Конечно, ведь если с ней сделали это, значит она ослушалась свою мать, и покинула отведенную для игр территорию. На такое у нее если и есть причины, то о них лучше тотчас забыть. Это священное правило. Так вот… на ужин я подала ей гнилое мясо, а потом Эльфриду рвало. В следующий раз, когда она вновь фантазировала, ей вновь пришлось есть гнилое мясо. На этот раз более видимо гнилое… на тарелке ползали черви. А потом я поставила новые куски сырого мяса на подоконник, чтобы солнце и мухи проникали в него, и Эльфрида понимала, что, если она вновь откроет свою фантазию, ей придется есть это мясо. Я думала, этого будет довольно, но обман повторился. Тогда ей пришлось съесть только червей, а мясо оставить. Мы не так дорого живем, чтобы переводить мясо, а как известно, одна порция может производить множество порций червей.
Альбертина. (хохочет) замечательно.
Пожилая женщина. Я знаю о чем вы думаете.
Альбертина. Даже не сомневаюсь.
Пожилая женщина. … думаете, что моими глазами смотрит сумасшедшая. Что я продукт морали, которую вы ненавидите. Что я не понимаю ужасов, о которых говорю. Но вы ошибаетесь, моя дорогая.
Альбертина. Вы кормите свою дочь червями, а я ошибаюсь. Несомненно, правы снова вы.
Пожилая женщина. К несчастью. Ведь я, продукт всего, что ненавистно вам, испытываю крохотную радость даже от нашей беседы, тогда как вы, осуждающая и подвергающая споры даже священные правила, не способны на такие крохи радости. И если вам не известен высший смысл, как и мне, так не стоит ли жить так, чтобы хоть малейшее доставляло вам радость?
Альбертина. Я ищу большего.
Пожилая женщина. Но вы не найдете.
Альбертина. Потому что я больна.
Пожилая женщина. Вы не найдете, потому что ничего нет. И в этой пустоте вы любите свою болезнь так же, как я люблю Эльфриду. Вы отдаете всю свою жизнь этой болезни, вы платите ей жертвы и возносите почести. Вы защищаете ее так же, как поборники морали защищают мораль. Вам кажется, дорогая, что вы избраны чем-то высшим лишь потому, что окружены чуждыми вам. Но если поместить вас в клинику, вы поймете, что являетесь такой же посредственностью, как и все прочие больные. И эти больные отличаются от поборников морали только тем, что сопротивлением этикету и нормам лишают себя малочисленных секунд счастья, отведенных человеку. Ваша болезнь не делает вас особенной. Она – просто центр вашего внимания, и как каждый человек ощущает свой центр центричнее и значимее центров других, болезнь – становится вашим кумиром, а защита ее интересов – становится созданием морали и правил. Вы зашорены и блуждаете в темноте.
Альбертина. Вы не понимаете меня.
Пожилая женщина. Напротив, ненавистная вам любовь к закону, не мешает мне понимать вас и принимать вашу позицию, слышать ваши доводы, которых нет, тогда вы, слыша лишь себя, не поняли ничего из сказанного мною.
Альбертина. Я не нуждаюсь в этом. Ваши слова так же бессмысленны, как и все остальное.
Пожилая женщина. То есть – как и ваши слова.
Альбертина. Конечно. Я предпочитаю молчание.
Пожилая женщина. Тогда вы должны предпочесть смерть, но вы не можете умереть, пока не отдадите всю дань своей болезни так же, как я отдаю дань Эльфриде.
Альбертина. Вы кормите ребенка гнилым мясом. Я напоминаю, что мое – не травит остальных.
Пожилая женщина. Кроме вашего мужа.
Альбертина. Если он отравлен, то уйдет.
Пожилая женщина. Вы переоцениваете возможности отравленных.
Альбертина. Он уйдет, если захочет.
Пожилая женщина. Тогда вы найдете другой объект, чтобы травить его своей правдой о жизни.
Альбертина. Возможно, я найду понимание.
Пожилая женщина. Это несложно. Ваши слова лаконичны и понять их может каждый.
Альбертина. А то, что стоит за ними?
Пожилая женщина. А что стоит за ними, если вами же сказано, что слова не имеют смысла?
Альбертина. Возраст научил вас софизмам и искусству отравления.
Пожилая женщина. Возраст научил меня многому.
Альбертина. Что бы вы не сказали, мне противны ваши мещанские ценности. Я понимаю их исток, понимаю их выгоду, но при всем желании для меня нет возможности их исповедовать.
Пожилая женщина. И это я понимаю. Поэтому Эльфрида ест гнилое мясо, когда позволяет себе не любить эти ценности. Уже скоро она свяжет отравление со свободомыслием, и откажется от него. Я мать, и в мои обязанности входит любовь к моему ребенку. Любовь это пролегает сквозь темные зоны, но нет другого пути. Я приношу маленькие жертвы, чтобы Эльфриде не пришлось приносить большие. Если она взойдет на ваш путь, то гибель ее неизбежна, и дорога к этой гибели будет руинами. Она должна полюбить ту жизнь, в которой есть надежда. Есть лживые идеалы. Есть прочные, пусть и мнимые, ценности. В древности носили обереги, чтобы спастись от сглаза. Но чтобы обереги работали, необходима вера. Амулетами и заклинаниями нашего столетия стали закон и нравственный долг. Чтобы жить хотя бы полутьме, а не в слепом безнадежье и бессмысленном поиске, я обязана приучить Эльфриду истинно верить в ценности и нравственный долг. Если она заплатит сейчас, может, искупит свою боль минутами счастья. И моя обязанность – подарить ей эту возможность.
Альбертина. Но она должна искать свой путь.
Пожилая женщина. Но пути нет. И я знаю об этом. Я хочу, чтобы Эльфрида узнала об этом в моем возрасте, а не в вашем. После получения этого знания – счастья нет. Пусть у нее будет возможность ощутить его, пусть у нее будет хотя бы возможность…
Альбертина. То есть, вы понимаете, что навязываете ей ложь?
Пожилая женщина. Конечно. Я не знаю, с чего вы взяли, что исповедуют лишь то, что непогрешимо.
Альбертина. И вы знаете, что Эльфриду ждет разочарование?
Пожилая женщина. Возможно, она не слишком умна, и тогда нет. Но в противном случае – конечно.
Альбертина. Это чудовищно.
Пожилая женщина. А вам – не чудовищно?
Альбертина. Мне всегда было так.
Пожилая женщина. Я знаю, что вас уже нельзя причастить, но, если бы был выбор – каким бы он был?
Альбертина. Я все еще верю в большее.
Пожилая женщина. Нет, вы просто все еще любите свою болезнь.
Альбертина. Некоторые болезни неисцелимы.
Пожилая женщина. К счастью, пищевое отравление не является подобным.
…
Большое Приключение – сладостный водоворот, молот слов по тонкому слою медной печали; печальный медный перезвон в ушах, не стоит воспринимать его всерьез; Большое Приключение – как детский аттракцион, бессвязное перечисление, где количество развлечений составляют наслаждение. Ничто не может держать стойкое лидерство в голове Альбертины. Вот она вышла на перроне, и все снова бессвязно. Другой город, другие декорации, но остальное остается прежним. Широкие улицы, серые тротуары, кафетерии, за стеклами которых развалились на столах дряхлеющие потаскухи, им только дай поразглядывать мужиков, дай позагадывать о размере члена и кошелька; они лежат, как опиумные, бахромой на своих рукавах протирают пыль, кричат garcon, тот подносит новую выпивку, с каждым залпом пьянеющей душе все больше мечтается о мужчине; широкие улицы, мужчины под руку с набившими оскомину женами, но покуда матка может содрогаться и порождать, женщина остается при деле; дороги-дороги, кого на них только нет, в ночном воздухе множество холостых и веселых голосов, звучат вульгарности и заманчивые обещания, для приличия обсуждают вчерашние новости, но больше, конечно, еблю-еблю-еблю, обсуждают округлые огни, рыхлые вмятины, и что «думал она бутылочка, а потом как воробья в ангар выпустил», обсуждают кто и кому, советуют тех или этих, делятся и продают их на распродаже. В городе богатый рынок измен, но все же он, пусть и больше, чем город Альбертины, окружает себя белым штакетником. Символ вселенской стабильности закусывает дома и уютные палисадники. Умерших детей хоронят у изгороди. Молодые любовники закрашивают облупившуюся краску. Рожавшая только дважды – считается почти неношеной. Этот город отличается от других городов, как способны отличаться два человеческих лица – ничего примечательного, но несколько иначе посажен нос и разные интонации – здесь есть очень богатые дома, где нувориши называют пакостливо называют дочерей книжными именами Альбертина, Гертруда, Одетта, Жильберта, Вивьенн, а потом отпускают эти бумажные корабли в паскудное плавание. Есть нищие дома, где зачинают и рожают на одной и той же простыни. Здесь многое есть, но все почти такое же, как и везде. Тротуары, аллеи, ожидания, глупости, в небе горят звезды, проститутки улыбаются и делают вид, что они не проститутки, и обычные дамы улыбаются, мечтая стать проституткой. Город достаточно крупный, чтобы обзавестись собственными легендами и опасностями; широкий, и можно спрятаться от молвы, он порождает собственных неизвестных поэтов с гуманистическим идеализмом вместо сердца, но тут и там слышен кокотский плач и сказки о любви, разбитой, потухшей, обретенной или несуществующей. Моряки выуживают свою дань из бабьего моря. Сор и срам порождает ненужное потомство. Священник не успевает обмывать и исповедовать. Впору лопнуть от спермы, какой накормили многочисленные мужчины своих многочисленных женщин. Великое колесо Развода и Нового брака проворачивает оси своих надежд, и курс его пролегает сквозь этот мрачный мир белого штакетника с той же периодикой, как и сквозь больной мир Альбертины; Великое и славное колесо Смерти ребенка и Рождения нового, славное злочервонное колесо дефлорации, дыхания, судороги, пусть блестят его небесные спицы, этого Великого колеса Зачерпывания до дна и Отхаркивая в океан жизни.
Альбертина идет единственно известной дорогой. Отель дешевый, но выглядит добротно. Стоит с того времени, когда люди верили в совершенство и стремились к точности, математические устремления нашпиговали отель удобными номерами, чтобы мужчине было комфортно выдергивать крюком интеграла полагающее ему удовольствие из бесконечного числа женщин. Здесь удобно супружеским парам созидать тройственность, или в уютной душевой вымывать ее возможность из своего лона. В этом отеле Альбертина провела брачную ночь и, потому как она нигде больше не бывала, именно сюда ее привел побег. Мир скрыт от Альбертины антрацитовыми облаками депрессии, но она все еще сохранила память. Здесь, в этом отеле все началось. Сюда же она возвратилась, так что пусть вечно будет славен тот, кто изобрел колесо. Альбертина покупает цветы на входе, и просит, чтобы ее мужа проводили к ней, когда он приедет. Она с цветами. С ними комфортнее и безопаснее любой женщины. Если ты не можешь дышать, можешь вдохнуть их запах. Комната приятна и стерильна, кровать навязывает похоть, центрируя на себе пространство. Синие бархатные гардины, звонкий паркет, услужливая пустая ваза на столике. Этот номер принимал самоубийц, любовников, освещал Содом, любовался Гоморрой, подсматривал избиения, а сейчас он принимает Альбертину. Оставшуюся девственной после брачной ночи в таком же номере этого отеля. За окном наступает ночь, и постепенно голоса становятся все тише. Но это ничего не значит, дрянная жизнь города всегда продолжается, ночью ее пагубная пульсация прикрывается супружеством и насилует своих дочерей в неестественных позах; город – то место, где мужчина всегда торжествует.
Альбертина стоит у окна, мысли ее заторможены. Она ждет появления мужа, и вот он появляется, с шумом распахивая дверь. Он с цветами, но отбрасывает их на постель, как только видит Альбертину, мужчина хочет к ней, но не знает, чего хочет она.
Муж. Альбертина!
Альбертина. Ты доужинал?
Муж. Я тебя люблю.
Альбертина. Да. Но не стоит говорить, слова расточительны для тебя. А собственность твоя остается твоей, я тебе не изменяла, и значит, тебе не нужно тратится вновь.
Муж. Ты заготовила речь.
Альбертина. Нет, я всегда жила за чужой счет, я беру свои речи из книг, говорю тебе украденными у женщин словами. И поэтому говорю, что не изменяла тебе. Женщин очень волнует, чтобы мужчина не думал, будто она ему изменяет. Кажется, им это важнее, чем мужчинам – знать, изменяла ли она ему.
Муж. Я люблю тебя.
Альбертина. Иди сюда (когда он подходит, берет его руку и засовывает себе под юбку, а он осторожно ощупывает) Вот видишь, я сухая. А теперь довольно (отталкивает руку) Мои украденные слова закончены, и украденные волнения тоже. Завтра тебе на работу, и ты хочешь, чтобы я поехала с тобой.
Муж. А ты не хочешь?
Альбертина. У меня нет выбора. Я принуждена твоей любовью.
Муж. Моей любовью?
Альбертина. Она платит за мои причуды. Пусть я и хочу, чтобы жизнь требовала от меня еще меньше, чем требует… ты требуешь от меня еще меньше, чем жизнь.
Муж. Я хочу поговорить с тобой. Так долго не может продолжаться.
Альбертина. Конечно, может. Ты просто не знаешь о своем терпении. Но, прости, если я терплю этот недуг так долго, ты сможешь терпеть его еще дольше.
Муж. Не думаю.
Альбертина. Но ты говоришь, что любишь.
Муж. Мне тяжелее тебя, ведь я не ощущаю этой болезни.
Альбертина. Но врач доказал тебе, что я ее не выдумала.
Муж. Альбертина…
Альбертина. Когда ты уснул, я смотрела в окно. Мне хотелось, чтобы вид города чем-то меня наполнил. Конечно, я была наполнена твоим семенем, но должно быть что-то еще. Город был пустым. И я пошла в ванну. Горячая вода не принесла в меня мысли, во мне ничего не было… во мне никогда ничего не было, но только около пятнадцати я это поняла, а до этого мне казалось, что всем живется так. Во мне ничего нет, мой милый, совсем ничего.
Муж. Ты красивая.
Альбертина. Ложись, тебе нужно поспать. Завтра на работу. Тебе завтра на работу, как и всегда.
Муж. А ты?
Альбертина. Я буду смотреть на город, который пуст.
Муж. А если я не смогу с этим справиться?
Альбертина. Ты найдешь другую. Как только захочешь, ты сможешь ее найти.
Муж. Но я люблю тебя.
Альбертина. Это будет для тебя проблемой, когда ты найдешь другую. Вот тогда и будешь уничтожать эту любовь, а пока тебе не стоит о ней думать… но, если ты уже думаешь, может быть и есть кто-то у тебя на примете.
Муж. Нет. Альбертина! Я всегда буду любить тебя.
Альбертина. Нет, мой милый. Уже скоро ты кого-нибудь найдешь. Теперь я это точно знаю.
Муж. Откуда?
Альбертина. Ты перестал надеяться на меня. А я перестала подыгрывать, будто что-то произойдет. Я хочу, чтобы ты лег. Я лягу тоже. Мы будем лежать вместе, и будем думать о своем, но нам будет казаться, что все нормально: ты лежишь со своей красивой женой, а я лежу со своим мужем, как в первую ночь, и все будет казаться нам нормальным, мы будем лежать вместе, и будем думать, что все нормально. Я очень устала, чтобы спорить, и мне хочется, чтобы было так. Ты ляжешь, и не будешь мучить меня разговором, а потом мы вернемся домой. Я готова лечь с тобой рядом, если ты перестанешь болтать.
Он кивает, начинает расстегивать рубашку. Он не сражается за нее и не пытается спасти, это просто слова. Она слишком любит свою болезнь, а он думает, что любит Альбертину. Они ложатся, и мужчине хочется, чтобы она заснула первой, но не выходит, ведь был очень трудный день, и он проваливается, у Альбертины вновь бессонница, но эта лишенность сна не приносит никаких мыслей и ощущений; она в оцепенении, ее фрустрация бесформенна и лишена имени, она давно уже старается ни о чем не думать, ведь иногда так трудно поверить в собственные мысли. Он обнимает ее холодное тело: Альбертина песня моей матери о тебе сквозь детство приходит дочь старой земли из тех дочерей вместо сердец лед и звезды танцуют под луной танцуют а я смотрю на тебя моя Альбертина как видел сквозь песни матери и когда я впервые увидел тебя будто бы ты вышла из маминых песен о старом народе а я будто присутствовал на их танце когда я впервые увидел тебя Альбертина и ты смотрела на меня так как смотрят они но ты смотрела на меня а я не мог поверить что ты смотришь на меня Альбертина и вот я подошел к тебе до тебя три всего три меньше чем у других и сказал тебе все смотрела на меня смотрела на меня слишком долго будто считала сколько их у меня было и думала умею ли я для тебя могу ли я для тебя но ты смотрела на меня и это давало мне сил и держал тебя за руку и холодная кожа все это время я смотрел на тебя Альбертина я засыпал рядом с тобой Альбертина я думал о тебе засыпая и просыпаясь я смотрел на тебя и все не мог понять почему и вот Альбертина ты смотришь на меня и я на тебя и мне казалось что я все еще сплю будто бы ты мой сон и сон мой обрывается и проваливается в другой сон черные сны где коровы на лугу и я иду по лугу и слышу смех дочерей старой земли а я иду по лугу к этим коровам и вижу что это не коровы а кто-то сшитый из человеческих тел и смотрит на меня коровьими глазами вшитыми внутрь человеческой мякоти твоими глазами Альбертина и потом я всплывал обратно в сны о тебе но каждый раз в эту черную мякоть в эту черную рыхлую землю я будто ухожу с головой для тебя Альбертина и возвращаюсь с пустыми руками в твой омут и ничего и ничего и ничего не нахожу будто бы вся ты моя Альбертина песня моей матери песня всех моих мыслей будто бы вся ты Альбертина только и живешь для того чтобы внутри тебя жили черные сны в котором изломанные люди как коровы и кровоточили и чтобы они жили внутри тебя а я смотрел на них будто бы именно я их создаю внутри тебя эти черные сны создаю их внутри тем что смотрю на тебя Альбертина так как ни один мужчина никогда не смотрел ни на одну женщину вот и все и все я смотрю на тебя как тогда и проваливаюсь в эти сны как под лед и ты Альбертина лишь открытая дверь в эту темноту.
Так заканчивается Большое Приключение Альбертины; сломавшееся где-то на половине пути, притупленное, совершенное по инерции, оказавшееся холостым для нее и ее мужа; она не сказала всех слов, которые заготовила, украла у других женщин, всех праведных слов, убаюканная усталостью, долгой дорогой и чрезмерной верой в любовь своего мужа; пусть все ее противостояние человечеству строится на отсутствии чувства, отсутствие действия в самой Альбертине, – это пружина, накрученная вокруг супруга, безвременность которой – после всех слов – не подлежит для Альбертины сомнению и дискуссии… Большое Приключение теряет в эмоциях и умирает, чтобы вернуть Альбертину домой, где она будет писать свою книгу, спускаться в подвал, ощущать тяжесть в мышцах и медленно умирать; в то место, где она не допускает перемен… Большое Приключение погасло, как гаснет свет, столь же бессмысленное, как свет, столь же стремительное и не оставляющее заметного следа. Альбертина принимает горячий душ, надевает платье, ее холодные мысли хрустят каблуками по паркету.
Альбертина, в отличие от Артюра Рембо, не верит, что любовь можно придумать заново.
3. Голод Ингеборг.
В своей маленькой комнате (остальные были сданы семье, умершей четыре года назад; трупы, возможно, все еще там, или хотя бы грязные отпечатки их) Ингеборг принюхивается к ходу времени. Позади, в пору юного солнца, время пахло зеленоватыми оттенками, печеньем, часто мылом; в пору более взрослой Ингеборг, когда она впервые стала самостоятельно вкалывать в волосы гребень и три невидимки, время изменило свой запах. Сегодня время пахнет табаком, потому что Ингеборг неустанно курит, словно пытается скурить оставшееся ей нескончаемое и ненужное время, почему-то отнятое в пользу Ингеборг у тех, кто нуждается в его минутах. Смерть оттянулась от нее в пользу каких-то других, тогда как Ингеборг не может понять, на кой ей монотонность, разорванная минутами приема еды, испражнениями и гигиеной; на что сегменты размышлений о теле; на что часы, когда ночной сумрак похож на пальцы, и его фаланги почесывают окна спальни. Смерть – это дудка, звук которой впервые и истинно нарушает тишину тех, для кого жизнь – это тишина.
Сегодня на Ингеборг черное шелковое белье, с узкой полосой ткани, что врезается меж ягодиц, немного оттопыренная спереди, потому что Ингеборг давно не брила неприкасаемую часть; на ней пояс и похожие на паутину и сеточку морщин чулки; эти чулки плотно облегают сорокалетние ноги; на сложенных коленях – «Песок из урн» Пауля Целана, книга лежит мертвой и пересекает ту границу, где черная юбка перетекает в серость чулок, где коленная чашечка похожа на гору Сион, где ее выпуклости, скопления кожи, вздувшихся и напряженных вен… книга лежит лишь затем, чтобы отвлечь внимание Ингеборг от бедствий физического тела, варикозных символов, кровавой цикличности, потасканности и засухи. На ней черный лиф, а поверх пиджачок того же цвета с гулко открытой шеей, подставленной поцелую, смерть ее дудка, подставленной воздуху, пальцам сумрака или пальцам самой Ингеборг, когда в пылу какой-либо фантазии она поднимает эти пальцы от Целана к шее, чтобы коснуться ее так, как касаются шеи любовницы: это происходит, когда Ингеборг удается покинуть свое тело сквозь коленную чашечку, увидеть себя со стороны и любоваться собой со стороны, воздыхать по себе. Каждый день Ингеборг одевается, чтобы быть желанной той другой Ингеборг, той таинственной Ингеборг, которая, якобы, живет в Вене (в венах коленной чашечки); далекая Ингеборг – ее любовница по переписке, лишь изредка приезжающая в Город по каким-либо делам. Та, другая, спала со многими женщинами, она знавала бордели, и ЭТА Ингеборг испытывает страшную ревность, ежедневно думая, где ТА, с кем и где она, эта другая, темная и импульсивная Ингеборг. Она обращается, чтобы развеять этот страх, к тому дню, когда они вдвоем, – как паучиха о двух телах, как две сестры, вылупившиеся из одного паучьего яйца, спаянные лапками, по воле случайности, сросшиеся от рождения коленными чашечками, – совратили солдатика. Его комплекцию можно было назвать крупной, девственный, с пульсами крови, как дудка, как крики, как детство, как смерть; наверное, в регулярной армии он часто подвергался оправданной травле. Ингеборг не испытали к нему жалости, но выразили жалость, проведя передними лапками по его груди, чтобы аорта его крикнула, спела дудкой, выстрелила вперед сквозь шею навстречу женщине, оттопырилась; они говорили ему теплые слова, будто выкраденные из чьих-то писем, откуда-то возникли неизвестные клятвы, которые влюбленный мог писать возлюбленной, бросать их бутылочными письмами в море, и Ингеборг, mater tenebrarum, своровали их и подарили солдатику; и тот, конечно, пошел на их зов.
Она спела ему приворот, и мужчина пошел к ней, положил ладонь, взмокшую, страшную (если задуматься, если утвердиться в предмете, любой предмет будет средоточием ужаса, как много страха в огромной мужской ладони, если представить ее отпиленной по запястью, и увидеть трепыхание этих волосков на тыльной стороне, как водоросли на темном илистом дне, и когда этот краб или эта блоха на твоем колене; и когда она сжимается, ты точно знаешь, что у тебя не хватит сил помешать, если что-то пойдет не так, если дудка перестанет кричать) ладонь на коленную чашечку, он хотел получить ее заповеди, страшный краб на горе Сион, но он и сам боялся, будто истинно предстал перед лицом Бога гнева, когда прислушался ухом к гудению крови в груди Ингеборг, прижавшись отверстием ушной раковины к соску, а паучиха ощутила темноту, кружащиеся пустоты в его ушной раковине, и сразу вспомнила детство, зеленоватые запахи, детство, гулкость тишины внутри морской ракушки. Она пропела, простонала ему что-то из Шумана, что-то из «Шепотов и криков» Бергмана, чтобы он уже никуда не делся, проСиренила куда-то в его глубокую даль, притворилась, что от искренности сомкнула веки и сказала, что «до тебя я спала только с женщинами и только мастурбировала, немного заведенная, что отец может зайти в комнату, обращая иллюзию отца, каждую его пуговицу, в реальность и возбуждаясь навстречу этому, особенно пуговицам, смазываясь, мастурбировала и спала с женщинами, исторгая в запястье Шумана, шептала (когда хотелось крикнуть), чтобы отец не услышал».. И конечно, этому солдатику стала как-то не так, как должно быть, все мечты это темные отмели, где иногда отыскиваются утонувшие девицы, и солдаты, которым предстоит оттащить их на сушу, часто совокупляют их или те, кто не хотят от страха, хотя бы разглядывают их гениталии, чтобы ощутить в себе, воспитать в себе, желание женщины, и если этого желания нет, когда смотришь в эту воронку, в этот хаос слипшихся от ила волосков внутри пизды и представляя вместо ила возбужденную до слизи пизду, то всегда обманываешь себя, что все дело в мертвости. Что все дело в мертвости, а не женщине. Откуда оно идет? Из самого центра. По такому же закону, один педераст всегда видит другого в толпе. Нет важности, какова внешность или что-то другое, они всегда видят и узнают, черная метка пересекает щеку, выбрита ли эта щека или покрыта бородой, черный шрам пересекает зубы, пересекает грудные мышцы.
Это черный мол, черная заводь, с литрами воды и тоннами ила, любые мыслимые конструкции приходят на помощь во время глубокого и липкого страха, – Ингеборг расстегивает его штаны. Ему кажется, что жизнь изменится, красавица Ингеборг, у которой строгий отец, которую каждый желал бы, – желания своей плоти именуя желанием свадьбы, – каждый желал Ингеборг, и вот она досталась лишь ему, но она говорит «я спала только с женщинами», и это обращает его к центру собственной воронки, но он ничего не говорит, ведь никогда нет никакого толка говорить, что Карфаген уже разрушен, что есть люди, чей Карфаген – от рождения разрушен каким-то нелепым стечением звезд, ведь существуют и иные: девочки, утонувшие, изнасилованные отцами, или, скажем, Авель, всегда есть чей-то жертвенный пример… Ингеборг расстегнула его штаны, и он возбудился, потому что возбуждение может происходить от страха, потому что бывают тела с особым темпераментом возбудимости, потому что он унесся к воспоминанию о велосипедном путешествии к Козьему Мысу, когда рядом с ним ехал его друг, и все возбуждение, нарастающие скачки внутри шеи – все это можно списать на быструю езду, а потом он думает о покое Козьего Мыса, когда она гладит, немного царапая, шею. Но она была только с женщинами, а он не хочет на такой жениться, ведь чистая идея свадьбы есть только в том, кто темный ил, и где можно не опошлять ее багровостью своих утренних желаний, где твое лицо искривлено вирусом педерастии, где можно углубляться в критское строение ее умозаключений… он раздавлен, она запрыгивает на него, и он ощущает, что Ингеборг – узкая, как смерть, и нельзя выскользнуть.
Ингеборг, как смерть, обхватила его со всех сторон, вынудила его устремиться к иному концу туннеля, разрушить каменный завал и вырваться к светлой матке, она крикнула, он о чем-то подумал, застонал, лопнуло несколько фантазий, он почему-то увидел, как она превратилась в призрака Козьего Мыса, увидел лицо того друга… он кончил, опадая на теплые плечи этого друга и прижимая к себе Ингеборг, которая представляла, как та, другая Ингеборг, предназначенная лишь ей самим случаем, воткнула в нее свои пальцы, погрузила до самой сердцевины, сделала прямой массаж сердца, что-то вырвалось из сердца, жаркое и по субстанции, как кишки морского угря (который часто подавался к ужину, и Ингеборг первым делом, даже первее, чем вынуть кости, потрошила его длинный живот, чтобы разглядеть кишки), и прилипло к пальцам неведомой любовницы.
Ингеборг позвала звуки смерти. Но ничего не ответило Ингеборг. Он лежал рядом, она ненавидела его. Весь песок высыпался на пол. Действительно, когда сперма засыхает, она напоминает комки белого песка или кокаин. Ингеборг впервые попробовала кокаин спустя два года. И с тех пор ощущает иную, волшебную Ингеборг, в собственной коленной чашечке. Если ждать лет тридцать, та придет навсегда. Та обижена за этот случай, свидетелем которого была, незримо была всегда, всех случаев, которые происходили в ту или иную минуту с Ингеборг. Ощущение кокаина были контактом, методом прямого соприкосновения с коленной чашечкой, с потаенной Ингеборг, с истиной и даже Богом. Она мастурбировала, наблюдая серебристое сияние над горой Сион, крутила по кругу, звала дудку смерти, звала потаенную Ингеборг, звала дудку на жизнь того проклятого солдата, умирала, плакала, звала фугу, как вихрь, что сметет Города, сметет цивилизацию, звала многоточие, звала надорванность… две паучихи, сросшиеся ногами, плакали зимней темнотой, вспоминая день, который вбился меж ними, воткнулся в тот шанс, который мог стать их встречей, в тот день, когда член пронзил собой ночь, красавица Ингеборг, смерть ее дудка, когда лопнуло в самом воздухе, когда хлопок, известный всем окровавленный хлопок озарил своей кровью ночь, уста бурана смазав сей кровью, когда Ингеборг, красавица Ингеборг, потерялась, ложно закрывая глаза… вспоминает, закрыв глаза, выкуривая и нюхая Время, которое пахнет табаком, вспоминает, прикрыв свое колено книгой, чтобы коленная чашечка не напоминала таинственную боль, покрасневшие венки, вздувшаяся чашечка, чтобы ничего не вспоминать, красавица Ингеборг, у солдатика было плотное сложение, клеймо сквозь щеку, опорожненные весы, потерянное счастье, красавица Ингеборг, вращающая клитор, как пуговицу на отцовском кителе, аорта солдатика, крики как дудка, тот тоже ждал любви, отец красавицы Ингеборг никогда не думал о воздержании, никогда не любил свою жену, здоровался за руку с тем солдатиком, шел снег, о фуга смерти, Пауль Целан прикрыл своим пеплом Сион, что теперь делать(?), в квартире, несколько комнат которой сданы мертвецам, что теперь делать, когда красавица Ингеборг, когда фуга, когда солдат, когда отец, когда пуговица, когда зима, когда снег, когда снег, когда Ингеборг, когда Пауль Целан, когда Пауль Целан, когда потаенная Ингеборг, когда возлюбленную Пауля звали Ингеборг, иная Ингеборг, множество их, «Фуга Смерти», мертвая девочка, мертвая девочка, снег, слышишь их(?), слышишь ли ты меня(?), слышишь ли ты, любовь моя, снег, Ингеборг, меня(?), плачешь ли ты, плачешь ли ты, как погибший щенок, когда Город вокруг, когда снег вокруг, когда множество Ингеборг, когда дудка, когда тишина, в период страшных ночных ожиданий?.. красавица Ингеборг.
4. Миз М.
…и её потухшее сердце…
…чувствовали себя вменяемо четыре месяца назад. Каждое утро они узнавали свежие новости; все существовало своей особенной жизнью, каждый двигал жизнь и помогал другим вытянуть еще один ватный день: убийца убивал, констебль пытался расследовать, корреспонденты кричали о случившемся, а миз М. слушала. Даже трудно представить, чем бы были заняты эти люди без этих шумных убийств. Одного нашли у дряхлого моста, на первый взгляд, почти, как утопленник; на второй открывается правда, что он – разрубленный на куски и заново сшитый. Другого на крыше погасившего свет небольшого храма. Следом – были другие; наверное – и сейчас есть, но миз М. уже потеряла к этому интерес. Она бы и хотела вернуться, но никак не могла вспомнить что за состояние подвигало ее каждое утро читать газеты в поисках этого происшествия; может дул какой-то особый ветер, может Нико приготовил(а) что-то этакое, или музыка играла особая. Но вернуться не было сил, миз М. уже не могла понять, почему это имело значение четыре месяца назад, почему осязаемость этих убийств начала медленно растворяться, а затем полностью иссякла.
Миз М., кофе, вчерашние трюфеля, взгляд ненакрашенных глаз. Она бы хотела, чтобы ее историю рассказывали в прошедшем времени, как про покойницу. Чтобы, черт вас всех возьми, пожалели и спохватилась. Чтобы – еще кофе, две третьих и треть молока – не указывали на факты, чтобы опустили настоящее имя, и, может, пол. Она думала о Нико, глуповатой жизни этого существа. Нико пересекает дорогу, каждый раз опасливо озираясь, делает нужные покупки и затем возвращается в дом. Четыре года назад, а затем два года спустя Нико нанимали в дом Арчибальда Б. для изображения пса. Нико голышом, как-то бесстыдно, не понимая, что в этом есть что-то этакое и такое, ползал по дому на четвереньках. Ему хорошо заплатили. Чтобы история рассказывалась, как о Нико, без указания пола. Хотя в доме-то Арчибальда все видели, и кто-то даже потрогал, что Нико банальный гермафродит. Пощупали, и вся странность этого существа затерялись, гермафродитизм Нико после того вечера четыре года назад перестал кого-то интересовать. Наверное, второй раз Арчибальд нанял его лишь из хорошего отношения к миз М., и потому, что Нико дал согласие за «спасибо» протереть рюмки после того вечера. А миз стало от него тошнить, как от давно известного; она всегда могла его раздеть и узнать все интересующее, но никогда не делала этого, потому что ей нравилось, как Нико готовит, а терпеть дома что-то привычное – превосходило ее возможности; и вот, они обнажают его, и слухи, конечно, долетают до миз М., и она возмущена, что ее неясному имуществу придали определенную ясность. Она клянется, что никогда больше не окажется в доме Арчибальда, но прошло четыре года и она вновь идет туда, на банальный фестиваль дождя, со всеми этими сексуальными излишествами и рюмками, а Нико все еще работает по дому; выходит на улицу и глупо осматривается по сторонам.
Она бы хотела, чтобы рассказывали, как о том Нико, ясность которого еще не проступила сквозь тайну; Нико о котором не знают и о котором говорят.
Миз М., вчерашнее платье, дождь за окном, прожила всю жизнь в Новом городе, в доме с затасканными гардинами, а три года назад у нее случился любовник. Вроде бы, любовник. Она не помнила, чтобы вступала с ним в связь. Но, может, вступала. Кажется, на горизонте брезжит, что она не уволила Нико потому, что тайна не была такой уж тайной, ведь с кем, как не с Нико, она – вступала, и должна была четко знать, что же он, Нико, такое; и она знала, или ей кажется, что знала, потому что это было в темноте, несколько раз, как с женщиной и несколько раз, как с мужчиной, забыв задернуть облезлые гардины – ну и черт с ним, никто не подглядывал – и именно поэтому не было смысла лишаться Нико, ведь тайны уже давно никакой, но она как бы умышленно все забыла и подняла пыль и крик, когда выяснилось, что дома у Арчибальда Нико раздели и даже трогали. Она не ревновала и вообще ничего к этому не чувствовала, только не понимала – зачем же было трогать.
С пустой бухты, которую никто не мог найти уже тридцать лет, до дома донесся плеск, потом крикнула чайка – неясно, почему убийца не кидал свои тела там, нет, он только и делал, что оставлял их для стареющего констебля, они были любовниками – он и констебль – сильнее и преданнее, чем все другие, не устающие развлекать друг друга всю эту жизнь, и трупы находятся только там, где этот крепыш может отыскать их, хотя миз М. сомневалась сможет ли он отыскать хоть что-то в собственных штанах – потом все заглушил дождь.
Она вспомнила, что нет, любовник был именно любовником. Он не имел никаких подоплек и сложностей, и уж он-то хорошо ориентировался в собственных штанах; не рисуя никогда в жизни и не учась этому делу, он вслепую мог нарисовать эту широкую белую дорожку меж двух круглых прудов – и в этом деле, дорисовывая для правдивости осоку паховой шерсти вокруг прудов, преуспел бы лучше, чем гнилой художник Арчи. Они были любовниками, и это ясно, у них случилось несколько раз, и миз была разочарованна, что в его рассудке – работал с водой, работал на призрачной бухте и выуживал оттуда трупы, работал выуживальщиком трупов всю свою жизнь – и сквозь весь его мозг только и проходила что белая широкая дорога меж двух мохнатых полушарий. Говорил, что у некоторых в горле застревают личинки стрекоз, что особо облезлые черепа загажены чайками. Их отношения быстро пришли в негодность, и она перешла на пару месяцев в руки доктора с замысловатой фамилией. Тот говорил, что нужно менять образ жизни, что это, дословно «плоскостопие чувств», «апатия», «вялость», а миз М. знала, что это «мертвость», что она уже разложилась и прошла несколько стадий гниения, что она уже далеко не здесь, что это вовсе не остросюжетная проза, а бессюжетная тьма. Она жаловалась ему, что «цветы начали тлеть с лепестков, когда лепесток умирал, он засыхал и обламывался, потом обломились стебли, а новые цветы так и не выросли», они предавались вялой постели с этим доктором, а он все говорил «апатия-апатия», но никогда, – что же с этим делать. Словно ключ от замка потерялся, понятно, что все не так, но не знаешь, куда сместиться и что предпринять, чтобы изменилось. Сердечная скупость, моральное плоскостопие и атрофия сердца; в четырнадцать случился гнойный перитонит, она молчала и не жаловалась на боль, а потом аппендикс лопнул и забрызгал горячим гноем брюшную полость и опалил все внутренние органы. Может, тогда было повреждено и сердце. Выглядывая в окно, она все еще продолжала видеть этих влюбленных, и думала, что они претворяются, и играют сами с собой, так хорошо, что уже – верят.
Она никогда ничего не чувствовала. Только это желание, чтобы день поскорей закончился, и начался другой, и он поскорей закончился, и начался третий, и все. Где-то там за этой вереницей наступит Все.
Первый выуживал трупы, и говорил, что два мертвеца венчались глубоко под водой, а он не мог подцепит их багром; второй что-то об апатии, а третьим был Нико, с которым бессмысленно, зато сегодня, как с мужчиной, а завтра, как с женщиной.