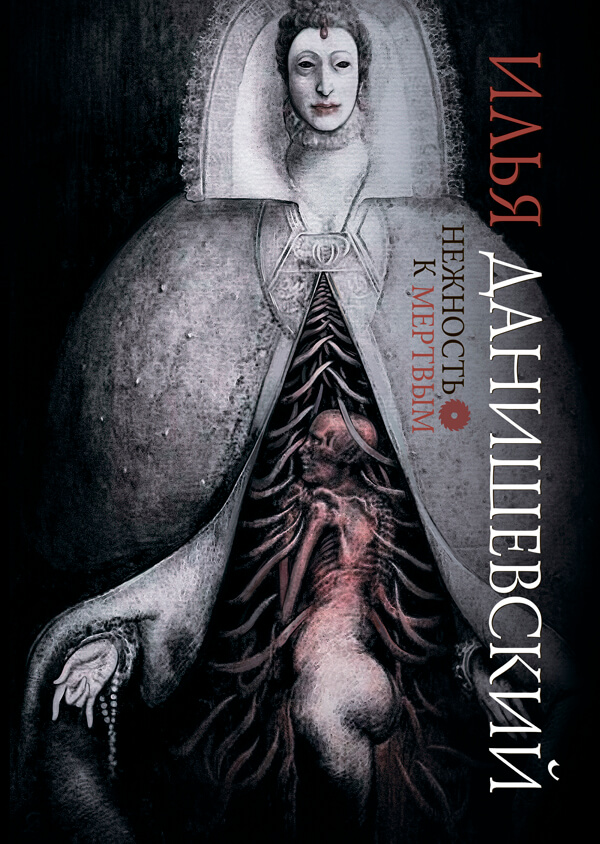Страница:
6. Босния
Мы – вместе могилы копаем в воздухе. Я называю это любовью; в моем понимании это именно так. Наш роман случился в том возрасте, когда юношеские прожекты уже отзвенели, когда гордость закончилась, когда какое-либо ожидание притупилось. Я был немного старше, но и ее стажа хватало, чтобы разлюбить жизнь. Мы встречались в комнате, кровать которой заправлена синим бархатным покрывалом, шторы в которой синие и из бархата, где салфетки вязались чьими-то старческими руками в ностальгическом порыве, и она часто любила курить у окна с какой-то глупой печалью, с манерной кинематографичностью и комичной приподнятостью навстречу солнцу. Все в ней напоминало мне старость, дряхлеющие строения и воспоминания Большого Бена8 о временах юношеского перезвона; ее стройные руки должны были бы копать могилы посреди воздуха, ее пальцы – укладывать мертвецов в эти могилы, ее голосовые связки напрягаться в нелепом «да не убоюсь я, идя долиною смертной тени…», и при этом всем тело ее и дух ее оставались бы совершенно серьезны; она была старомодна, и по старой моде кости ее были тонкими, ветхими, сердце глубоким, а дырка влажной. Мы практиковали римминг и глубокое страпонирование без смазки, мне нравилась эта боль и кровотечения, то, как Босния курила после процедуры с видом покинувшей площадку Монро; спящая в гробу Дитрих – вот кем была Босния, запертая в комнату с синим бархатом. Она не создана и никогда не рождалась для другой жизни, она, скорее всего, не умела читать, ее макияж был создан под полутона этой комнаты, ее платья маскировали изъяны резных набалдашников нашей постели; я не удивился бы, узнав, что Босния никогда не выходила на улицу, что похоронена она будет здесь, в синем саване, в синем капоре дешевой проститутки, удушена сигаретным дымом, с трупными пятнами мечтательности на щеках, обильная и сочная в своем желании умереть, даже посмертно не удовлетворенная и умершая от недостатка смерти. Босния была королевой тех проституток, которые желают больше и больше, которые расширены шире, чем предместья Парижа, ее содержимое – старая посудная лавка, звонкие щелчки предохранителя и музыкальной табакерки; Босния была бесчувственной любовницей с красивым шрамом во всю спину, она любила говорить о вещах, знание о которых было призрачным и отдаленным, она любила мечтать о них ярко, пафосно, с нарочитой похабщинкой, словно старая башня на берегу Рейна говорит о шедеврах эпохи модерна; она была смертельно больна любовью к миру и презрительно-близорука к своей судьбе; я любил ее хрупкость, ее мертвые кости, ее кожу белую от смерти, ее разнузданную пизденку, ее раскляченные ноги, ее пегую шерстку, ее глубокую ненависть к контрацепции, ее детскую открытость миру за стеклом. Придет час, и ее механизм остановится, спящей она останется в синем бархате несказанных слов.
8. Имеется ввиду «Медведь» Фолкнера
Мы встретились – стареющий педераст, отчужденность и холодность которого можно было бы полюбить, но не срослось, старый девственник, свою девственность превративший в ненависть к миру, и Босния, тоскующая артистичная шлюха, не способная пережить гибель смертельнородной сестры. Я любил ее платья, как собственные, любил ее потерю, любил ее сестру за то, что она умерла. Мы повстречались во вторник. Меня всегда мучило – до этого вторника – как именно следует посещать бордель: будут ли они говорить со мной, могут ли позволить себе какие-то замечания, я не хотел, чтобы спрашивали, как я хочу и не хотел, чтобы они знали о моем отсутствующем прошлом, я хотел, чтобы все было так, будто по любви, и, понимая, что разочарование может меня уничтожить, не направлялся к мужчинам. Мечта о военной форме должна была вылиться в женщину; все мои причудливые узоры уже не имели никакого смысла, всякое мое ожидание высохло, моя пересохшая дельта настолько выпучилась трещинами дна навстречу солнцу, что я открыл для себя двери борделя. И за ними – девки-девки-девки, и все вокруг девок драпировано под венецианство, все покрыто пудрой, церковно-приходская школа для юного педераста, здесь и накрахмаленные волосы и начесы, вазы с уриной, здесь гроты, здесь дворцы – утонувшие в пене, утонувшие в минувшем, здесь остановившееся часы и оплата по минутам, здесь девки-девки-девки, а я бы хотел мужчину, но иду, а мимо девки-девки-девки, и я пытаюсь выбрать из них хотя бы какую-то, чтобы не уходить вновь опустошенным, не уходить в привычном ощущении разочарования. И вот Босния. Это не тот роман, который как-либо афишируют. Его изломанная драматичность пересекает фарватеры тишины, ее костистый стан опирался на спинку стула из красного дерева, и я приценился к ней. Мы отправились в комнату, которая позже станет комнатой наших постоянных свиданий. Мне бы хотелось, что в этой комнате помимо меня не происходило никаких празднеств, никаких торжеств, чтобы Вакх здесь не рождался и Сатурналии не праздновались, чтобы мои запахи, каждое мое слово, выделение, секреция и секрет впечатались в череп комнаты, подперли ее своды, впитались в духоту ее прошлого, стали – частью ее, неотделимой лобной долей, чтобы исповедь моя – трещала стропилами даже тогда, когда моего тела не станет. В этой комнате я рассказал, что меня возбуждают детские платья, божьи коровки, и собственные фантазии о мужчине, которого зовут Марк; такого мужчины никогда не существовало, и я не встречал никого, кто был бы хоть отдаленно похож на него, но почему-то меж моих зубов постоянно звучит его голос, и когда я наедине, то говорю-говорю с ним, о нем, засыпаю с влажностью к Марку и просыпаюсь, упираясь в пустоту по имени Марк; что Марк носит военную форму, очки, любит мою нелюдимость; что я возбуждаюсь, когда представляю, что Марк плачет, то есть – до воображаемого совокупления – раскручиваю в голове сорокаминутную-часовую предысторию, в которой я ссорюсь с Марком, а затем мирюсь с ним, и мы выражаем телесно свою любовь и примирение, он целует меня, он лежит на моей груди, он историк или врач, он лежит на моей груди, мы говорим, и я прокручиваю, пока не засну, наши с ним разговоры, и что я знаю имена и жизни всех сотрудников Марка, знаю его маму, знаю каждую деталь его скелета, его жизни, каждую трещину и потаенную правду, каждую его страшную фантазию; что вся моя жизнь – это совместная жизнь с выдуманным Марком, и что когда я иду по улицам, часто ищу его в толпе, что я сохраняю свою девственность ради Марка, ради Марка каждый мой вдох, каждый мой выдох, все мое сердце и все мои осени в ожидании Марка, каждый рабочий день, каждая зарплата, мое завещание, мои кредитные карты, моя чистейшая кредитная история, что, может, мы усыновим ребенка, у нас будет большая собака, и собака будет вбегать к нам по утрам и наш сын тоже будет вбегать в спальню, а в спальне – я и Марк – я знаю, как будет выглядеть наша спальня, а если выйти из спальни – квартира, и я знаю в этой квартире каждый угол, каждое тайное имя предметов нашей квартиры, я знаю, сколько он получает и кем работает, во сколько приходит домой и что любит на ужин, свинину больше говядины, наши будни, наши выходные, наши годовщины и даже – подарки, которые он подарил бы, существуй, только бы если он существовал, то подарил бы мне именно это; я рассказал, что в моих книжных шкафах есть пустые полки для книг Марка, в моем сердце нет ничего, кроме Марка, что я заготовил для него свое завещание, что всему своему крохотному кругу друзей я рассказал о Марке, но забыл добавить, что его – не существует; и все они думают, что уже много лет я живу с прекрасным мужчиной по имени Марк, все мои друзья думают, что я счастлив, я пересказываю им наши диалоги с Марком, наши мечты, наши будни, наши выходные, я нахожу поводы, чтобы их не знакомить, но никто даже не сомневается в существовании Марка, я знаю и рассказываю о нем каждый фрагмент, каждый час нашей воображаемой жизни, я задыхаюсь от любви к нему, я плачу по ночам без него, иногда – он уезжает из моего разума в командировки на две недели, и я жду, и я жду его с трепетом, мы будто говорим с ним по телефону и пишем друг другу длинные письма, я пишу ему, что скучаю, и он отвечает мне тем же, я рассказываю ему, какие новости на работе, чем я живу в эти скучные дни, когда его нет, когда его нет рядом, и тут же придумываю, чем Марк занят там без меня, в чем его дни, что на работе и какие у него настроения; я выдумываю стихи, которые Марк посвящает мне, и показываю их друзьям – собственные стихи! – и они говорят, что у Марка определенно талант, и я даже чувствую за него гордость, но одновременно и боль, ведь это – мои стихи к Марку! – и я говорю своим друзьям, что он замечательный, что я горжусь им, что я люблю его больше жизни… пусть все это станет частью комнаты с синим бархатом. Я хочу, чтобы это было так.
Босния выгодно отличалась от прочих – женщин подобного возраста – она не пыталась спасти мир, не рассуждала о морали, не сокрушалась об ошибках, она принимала вещи такими, какими они являют себя в первое мгновение: мужчина мечтает носить девичье платье и выйти замуж; боль сиамских близнецов при потере второй половины надломлено-острая. О своей умершей сестре она рассказывала ровно столько, сколько требуется для пояснения угреподобных шрамов во всю спину – операция по разделению очень сложна, и сердце одно из разделяемых иногда не выдерживает. Жизнь теряет к подобным женщинам – ставшим несколько… однобокими – всякий интерес, как только чудо медицины сверкнуло скальпелем, и приходится идти в проститутки. Она сказала, что у ее отца было хорошее чувство юмора, оно выразило себя полностью в сросшимися торсами Боснии и Герцеговине, но после навсегда покинуло этот круп и отправилось искать себе более здоровородящую жену и более славное потомство. Босния не сокрушалась. Ее талия была прекрасной собеседницей. Ее ноги были прекрасными собеседниками. Все ее тело было заунывной песней о главном – смерти. После совокупления, она отходила к окну и закуривала, и мы начинали нашу любовь: поочередно рассказывали друг другу истории, она мне о Марке, о выдуманных моментах нашей с ним совместной жизни, во всех деталях, без всякой робости она ныряла в омуты наших взаимоотношений, придумывала поводы для ссор и под мою мастурбацию бурно описывала «примирения»; я же рассказывал ей о том принце, что ворвется в царство синего бархата и похитит свою шрамированную королеву; о том евнухе, которых выхватит ее из семяизвергающих простыней; о кастрированном королевстве, которое она получит в приданное. Мы говорили намеками, сказками и ложью. Пусть наши жизни и лежали за пределами веры в фантазии, сами фантазии были ценнее обычной человеческой жизни. Она мечтала о рыцаре с красным знаменем, на котором золотом вышит перечеркнутый пенис, а я – о красном и дымящемся в мою сторону рыцаре с багровым пенисом, о часах и минутах нашей радости; она – тишины, о часах и полуночных часах бесконечной фригидной беседы; она хотела жизни похожей, на сломанный палец, я – жизни, как вправленный перелом, чтобы кость снова на своем месте; она – о странах, где люди ползают перед огромными блохами на коленях, где на склонах (фоном – красный-красный или кровь-из-аорты рассвет/закат) молятся кастрированному Вакху, где пляшут освобожденные куртизанки, давшие обет целомудрия, где женщина присаживается и плачет золотым дождем без страха быть изнасилованной; я думал о Марке, том доме, который я выбрал для нас, и Босния рассказывала мне о тихих днях, осенних и зимних днях, летний, весенних днях, которые мы с ним вместе проводим денно и нощно, наших поездках на реку, где поют комары, где мы – я и он – на медвежьем шкуре в одном из бунгало; я выдумывал для Боснии диковинные страны, я рассказывал ей книги, которые она никогда не читала, и делал ее главной героиней, я переписывал для нее эпилоги, я плакал вместе с ней в минуту расставания возлюбленных, я говорю ей, что рыцарь придет, разорвав заслоны, и все мы – я, Марк, Босния и рыцарь – будем счастливы, покуда смерть не разлучит нас.
Здесь я забывал всех своих знакомых, их проповеди, их голоса тонули, синий бархат поедал все. Здесь Босния привязывала к своей спине одеяло и показывала, как именно кожные склейки связывали их с Герцеговиной, о врачах, которые проводили многочисленные операции, о детстве, проведенном под светом хирургической лампы. Здесь мы были счастливы: я, Марк, Босния и ее умершая сестра. Здесь проходило нашей время, наши осени и весны, лето, одно за другим, и весна, кислая и горькая весна, и с каждым часом мы с Боснией обогащались надеждами, и с каждым часом в нас рождались новые истории друг для друга. Наши больные тела изнемогали от желания к Маркам и рыцарям, и выражали эту любовь к ним друг сквозь друга; наши больные души жили в синем свете синей комнаты, наши мысли спали в далеких странах, наши океаны выходили из берегов, мы были – самыми счастливыми людьми на земле, я и Босния, прооперированными сказками чужаки на промозглых улицах, мы были лишены внутренней осени в объятьях друг друга; книгоиздатель и проститутка спали в одной колыбели, год за годом, год за годом, ночь подгоняя ночью, в песнях о таинственных землях, монастырях и утонувших аббатствах, чудовищ которых свергают рыцарь и его верный оруженосец по имени Марк, час за часом они были все ближе к цели – дверям синей комнаты; Рыцарь и Марк занимались любовью, в ожидании нас так же яростно, как я и Босния… там, за стеклом этой комнаты, жизнь была наполнена шумом, памятью и правилами, здесь же вечно горел зеленый свет, мы ныряли в ширину игольного ушка, чтобы выхватить наши фантазии из путаницы воображения и облачить их в слова друг для друга. Уже близко… год за годом, один дракон за другим, ветер за ветром, история за историей, тянется наша любовь, одно голодное сердце льнет к другому голодному сердцу, спят в одной колыбели отчаявшиеся, прижавшись спинами, будто сиамские близнецы, осень за осенью вместе, осень за осень в одной могиле, – обитой синем бархатом; на ночь целуя друг друга, будто целуя других, в лоб, в губы – глубоко-глубоко, и снова в лоб.
Мы – могилы копаем в воздухе.
7. Комната Жерико
Когда она съехала, остались только туфли от Маноло Бланик. Поддельные туфли, ремешок потерся, дырка в колодке. Это все, что осталось. Такой ее запомнят, и это я называю грустной смертью. Каждый раз, когда я думаю о смерти, я вспоминаю картину Жерико и еще множество других картин. Когда я говорю «съехала», это значит – умерла. Выбыла из поля зрения; внеплановая командировка, несвоевременное замужество; грустная потеря девичества. Я не знаю, как она умерла, но она съехала в известном мне направлении – на правый берег реки; реки, берег которой кажется белым, мертвое тело в белой ветоши трупных червей; туда-туда, где мертвые в белом полощут свои рукава. Вот так; от нее остались только туфли Маноло Бланик; поддельные туфли, которые когда-то – очень-очень давно – так же были белыми. Она съехала, оставив мне свои туфли. Я выбрасываю их на следующий день, и навсегда стираю информацию о своей квартирантке с жесткого диска.
«Мертвые не шумят», – так всегда говорила мама. От мамы осталось несколько квартир, красивый браслет, папина фотография, обитая бархатом шкатулка с моей пуповиной, много всякого барахла, и эта замечательная фраза – мертвые не шумят. Как бы громко они не умирали, они никогда не шумят ПОТОМ. То, что будет потом – это очень важно. Кому следующему ты сдашь квартиры, оставшиеся от твоей матери. Плохие квартиры, странные квартиры, дешевые квартиры или дорогие квартиры.
Я знаю, что каждый квадратный метр нашей жилплощади принадлежит мертвым. Все, к чему мы прикасаемся – на самом деле принадлежит им. Жизнь – это аренда на длительный срок. На самом же деле твои морщины, твои туфли и твоя девственность – находятся в собственности тех, кто на другом берегу реки. Большая квартира в центре города с хорошим видом на –
Сан-Марко,
Сен-Жермен,
Блутен-Блутен-Блутен-Плац – стоит дороже всех прочих квартир моей матери. Я думаю, что она слишком хорошо знала мертвых, поэтому преуспела в жизни. Она знала, что мертвые не шумят. Это все, что она знала, это все, что она оставила после себя – из важного.
Вся моя жизнь замкнута в квартирах моей матери. Я называю это добровольным заточением. Я считаю себя мыслью, заточенной в черепе этих комнат. Или птицей в клетке. Воздухом в легких. Никогда ты не определишь стоимость своей жизни более достоверно, чем так: жить на виду исключительно мертвых. Я осматриваю большую квартиру с видом на *** после того, как она съехала.
Я нахожу ее туфли и тысячу других мелочей. Все это уничтожается взмахом моей руки. В ванной она развела этих глистовидных созданий с хитиновым панцирем, которые скользят в каналах меж кафеля; я сижу на унитазе и смотрю, как одна из этих тварей дрейфует по цементным мостам. Я не знаю, что это за насекомые, но они всегда приходят на запах смерти. Квартиры в центре городов – мертвые, из них не вытравишь этих созданий, тысячи дезодорантов, индустрия освежителей воздуха, все эти клубничные ароматизаторы и даже инсектициды – ничего не поможет. У этого животного длинный подвижный хвост, множество лапок на брюшке, я разглядываю судорожные движения9. Перевожу взгляд, и вижу в раковине еще одно. На этот раз более толстое. Думаю, они питаются песчинками перхоти, чешуйками эпителия, думаю, они утилизируют все мертвые, что производит человеческий организм. Когда ты носишь поддельные «маноло бланики», ты вынуждена делить пространство с мертвыми. Насекомые – их вездесущие спутники; они приходят из сливных отверстий, покрытых трупной ржавчиной канализационных метастаз. Там, ВНУТРИ домов они свиваются клубками, они спариваются друг с другом и откладывают яйца. Для матери хитиновых стай существование сводится к скольжению в рвотных массах и излишках эякулята, сдроченного в раковину; она плодится от анонимных мужчин, и в какой-то момент умирает от тяжелых родов. Ее дети подымаются из тенистых юдолей и выползают из слива и канализационных люков – а потом ползают в склейках меж нашего кафеля, и их хитиновые спинки блестят под нашими лампами. Та самка, что сейчас скользит по раковине – Эвридика, она так и норовит соскользнуть обратно в подземное царство. В чем-то ее жизнь очень напоминает мою – осознание черной дыры под ногами, ослепленность ярким светом, желание большего.
9. Каждая из квартир моей матери заражена насекомыми. Кажется, они стоят на стороне нашей семейственности, и прячутся в темноте, когда приходят новые квартиранты. Мертвые не шумят, в этом все дело. Из поколения в поколения мы доим мертвых коров; всегда найдутся желающие нашего мертвого имущества. Условия таковы: мертвые кормят нас, а мы не будим их призраки. На языке живых это значит следующее: имущество подчиняется мне, пока я не нарушаю волю своего имущества. Я сдаю квартиры, я зажиточная стерва с имуществом в центре города, я хозяйка рычащих водопроводов и опадающей штукатурки, я заклинатель мертвых, обреченная на вечное отчаяние госпожа, но мертвые не шумят о своих несчастьях. Все началось давным давно. Думаю, кто-то из моих предков страдал по какому-то мальчику, и на этом топливе осознал: мертвые не шумят. В этой простой истине весь цимус жизни. Мы вольные художники, искатели несуществующего – мы те, для кого пишут книги по философии, это мы в рабочие часы сидим в дорогих кабаках, это для нас модельеры шьют свою непрактичную одежду, это мы понимаем комедию дель Арте, мы потребляем арт-хаус и многие странные виды искусства; мы способны заплакать от удивительно-тонкого зеленого оттенка на никчемном образце абстрактной живописи. Моя мать, моя бабушка, ее мать и мать ее матери, и бабушка этой матери, и мать этой бабушки – все мы не занимались ничем. Ничем, кроме посещения парикмахеров, спиритических салонов, приемов, ресторанов и мужчин. В разных странах, под разными именами, вырубая генеалогическое дерево и взрастая снова – мы всегда здесь. Мой дневник нетороплив – заметно – он ни к чему не стремится, он пишется – для гипотетических дочерей безделия, для касты работорговцев и декадентских приходов. Я знаю из какой скуки придумали Лысую гору и маленькое черное платье. Все это – для таких, как я. Нас много, как этих глистовидных чудовищ в старом водопроводе.
Тебя зовут Мария. Всему нужно имя. Анна Франк дала имя даже своему дневнику. Но у моего дневника не будет имени, и он будет выстроен в форме поучения – обращения к тебе, которую я хочу называть Мария. Ты понимаешь мой шифр, я плачу в твои объятья. Сейчас ты сидишь где-нибудь в Париже, и нравишься каждому мужчине в зале. Мне неважно отдаешься ты им или нет; я не верю ни в правосудие, ни в воздаяние, ты вольна распоряжаться своим телом по собственному усмотрению; главное – ты живешь жизнью тли ровно так же, как я. Ты сдаешь шесть или семь дорогих квартир, и только этим обеспечиваешь свое тленное существование. Моя матушка – как и твоя – была вдумчивой сукой, и, конечно, вкладывала подарки и деньги в квартиры, склепы, кладбищенскую землю и т.д. Твоя мать знала, что мертвые не шумят. Мертвые очень близко. Мертвые в зияющей темноте. Мертвые – в твоем сердце; скелеты птиц плетут гнезда в твоем черепе. В средние века нас называли ведьмами, в Просвещение – проститутками, сейчас мы просто достойные внимания женщины. Нам обрезают кутикулы, парикмахер вычесывает перхоть каждую среду, кожа обожжена вертикальным солярием. Ничего особенного – у нас просто есть время умертвлять наше тело самыми дорогостоящими и изысканными способами.
У нас есть возможность – вести неторопливые дневники. Письма. Изучать теорию струн. У нас было время расшатать свою толерантность, и принять – практически все. Нас невозможно удивить, влюбить или расстроить. Богатая женщина – самая мертвая женщина. Наверное, ты знаешь о снафф-порнографии все. По крайней мере я думаю, что тебе в свое время это было так же интересно, как мне. Ты слышала про Черную Мессу? Так назвали инцидент в детском доме, который арендовали четверо мужчин. Они были в масках Бафомета, и, наверное, они были из нашего племени. Шестьдесят восемь подопечных детского дома на одни выходные стали подопытными этих четверых. Несколько литров эякулята закачали в шестьдесят восемь тел. Я уверена, ты слышала об этом. Ты ведь тоже читаешь газеты, ты – бесконечно в сердце тренда. Ты знаешь, что постгэнг-бэнг вытеснил с рынка буккакэ. Я уверена, тебе надоела порнография так же, как мне.
Как Париж? Кованые решетки, влюбленные, комочки жвачки на перилах моста брачующихся, катакомбы с веселыми скелетами, и все эти бесконечные художники, которые готовы нарисовать твою манду за два евро? Думаю – так же, как в прошлом году, столетие назад, четыре столетия – даже во времена Иисуса.
Все это не имеет никакого значения, поэтому я расскажу тебе свою жизнь. Вехами. Кровью. Сейчас, когда я ощутила, что мое очко сводит белой болью, и мне больше неинтересно разглядывать Эвридику-на-кафеле, я поднимаюсь с унитаза и чувствую, как онемели ноги. Даже эти нюансы бывают важны. В их описании – сильное и большое искусство. Бесполезность. Усталость. Темнота. Поддельными «маноло бланиками» вытоптана дорога в ад. А когда-то я была трепетной девочкой. У меня было детство. И воображаемый мальчик. Как тебе известно – когда-то много поколений назад женщина из нашего рода разочаровалась в мужчинах, и наши сердца – навсегда замерзли. Теперь мы не ищем любви. Взамен наши глаза научились выхватывать из действительности удивительные нюансы тщетности и смерти. Но когда-то давно у меня был воображаемый мальчик. Я только нащупывала свою потаенную сексуальность. Я только училась жить. Но мать сказала, что мертвые не шумят. С этой фразы начинается инициация. Тебе это известно, ведь так? Взрослая женщина ведет тебя на чердак – туда, куда раньше тебе запрещали подниматься, и ты видишь огромное нарисованное на стене дерево. Женщина торжественно говорит тебе, что это – Тоддрассиль – символическое изображение великого Дерева Смерти, Древо Клифот, тайнопись, дверь в мир призраков. Ты чувствуешь будто мир начинает дрожать. Его границы расширяются и вибрируют. Тебе кажется, что сейчас что-то случится. Смотришь на тщательно прорисованные листья этого великого дерева, хитросплетения его торса, в его коре тебе мерещатся человеческие лица и даже черепа. Женщина в красном, ты – в желтом. Я знаю, что в этом есть какой-то намек. Недавно ты начала читать Бронте, твоя мать – купила новую квартиру. Она говорит, что происходящее – очень важно. Ты должна вобрать в свое сердце и вытеснить все прочее – мертвые не шумят. Даже если ты не хочешь этого знать – мертвые не шумят. Даже если ты хочешь жить – мертвые не шумят. Любить – мертвые не шумят. Чего бы ты не хотела до этой минуты – мертвые не шумят. Вот к чему сводится твоя жизнь. Это право рождения. Дерево Смерти нарисовано на твоем чердаке, на его листьях – имена твоих предков, черных вдов, самок богомола. Забудь воображаемого мальчика. На этом все духовные процессы остановлены. После – тебя отправляют в художественное училище. Твои руки должны научиться рисовать. Там – твоя первая школа одиночества. Добро пожаловать, вилькоммен и все остальное. Привет. Здравствуй. Славься – густая чернильная чернота.
Художественное училище знакомит тебя с картинами Жерико. Для тебя, что они, что открытки с видом заснеженной Праги. В модных салонах любят обсуждать Климта и Софокла. Иногда тебе снится Тоддрассиль, и ты понимаешь, что все это – не шутка. Дерево мертвых действительно существует. Ты знакомишься с трудами средневековых демонологов, и все это – совсем не шутка. Ты ходишь по книжным магазинам и выбираешь книги. Ты ждешь, что однажды хоть кто-то напишет правдивую топографию ада. Чак Паланик «Проклятые», Данте «Божественная комедия», Свифт, Толкиен – все они не рассказали всей правды. Каждый забыл о страшной атмосфере душевной угнетенности. Ад кишит «живыми» существами, мертвыми, насекомыми, он поражает границы твоего воображения. Ты пытаешься прикоснуться к его величественной архитектуре. В какой-то момент ты понимаешь, что должна нарисовать ИСТИННУЮ картину. Лучше, чем другие картины. Единственную картину. Я назвала ее «Свадьба Бархатного Короля», я слышала о другой Подобной – «Брат, на что ты меня покинул…10», картина от которой шестнадцать девственниц покончили с собой. Я решила нарисовать «Свадьбу Бархатного Короля» через два года после «инициации», после того как приехала из училища в одну из квартир моей матери. Мне казалось, я почти поняла, что значит Тоддрассиль, и наша жизнь – служительниц мертвого дерева – и сказала матери «я хочу нарисовать ИСТИННУЮ картину…», «я хочу показать людям МЕРТВЫХ, то, что происходит ПОТОМ…», она посмеялась надо мной. Тебе известно о том, что НАС преследует странные сны. Корни дерева мертвых растут в нашей почве, а крона затмевает солнце. Это напоминает действие барбитуратов. Жизнь перестает что-то значить, когда маленькая девочка приносит мечты о мальчиках, слюнявом сердце и деторождении на алтарь Тоддрассиля. Все становится совсем другим. Тебе это известно. И я должна была нарисовать «Свадьбу Бархатного Короля»…
10. Один из самых известных портретов Джекоба Блёма, на котором Девы Голода подносят Безумному Королю свою жизнь и свою любовь.
…я продолжала посещать модные салоны и вести дискуссии об искусстве. На самом деле я очень боялась увидеть на одной из выставок что-то, что показалось бы мне ИСТИННОЙ картиной; я боялась, что меня опередили. Но нет. Ничего подобного. Люди продолжали рисовать людей: людей, сделанных из кубиков, кусков дерьма или красного пенопласта. Никому не снились сны, подобные мне. Я бредила «Свадьбой Бархатного Короля» несколько лет. Все мое существование свелось к отстаиванию своей творческой позиции перед лицом критиков и потребителей. Я думала, что смогу проложить мост между миром живых и миром мертвых, а мать продолжала смеяться надо мной. Мертвые – в атмосфере, они в тягостном бездействии, очень скоро ты поймешь тщетность, там на глубине этой тщетности – и существуют мертвые, это и есть – Свадьба Бархатного Короля. Но я не верила в нее. Скорее всего в тебе так же существовали человеческие амбиции, ты хотела – так сказать, схитрожопить – сесть на два, а то и три стула сразу. Ты думала, что принадлежишь мертвым, но при этом откусишь от пирога живых. Я спорила с литературоведами. Я выступала с докладами и кричала «Джойс – бездарность, самая маковка, самая поверхность, искусство должно шагать глубже…», я спала с критиками, и тогда им начинали нравится мои эскизы. «Свадьба Бархатного Короля» существовала в шестидесяти восьми набросках – ровно по числу жертв Черной Мессы. Я была одержима искусством, я была одержима «Свадьбой…» в той же мере, как, вероятно, Караваджо был одержим «Поцелуем Иуды». Со мной вели разговор о манере, о красках, и я не могла понять – зачем? Живые очень любят подвижные мелочи, они мечтают обмануть самих себя, утроба их воображения родила поддельные «маноло бланики», они говорили, как моя кисть ложится на полотно, как холст отторгает краску и все остальное. Они уничтожали воздух своими разговорами. Мы занимались сухим художественным сексом, и по утрам обсуждали «Свадьбу…». Никто не мог понять метафору Бархатного Короля, и никто не мог поверить, что метафоры – не существует. Бархатный Король существует, как существуют мертвые, но люди не верят в мертвецов. Отгороженные кладбищенскими оградами, те плачут в одиночестве. Одному из критиков я сказала, что Бархатный Король спит в корнях Древа Смерти, и к нему обращены крики всех колоколов загробного пространства. Я сказала ему, что в Зеленом Радже11 высится Колольня Верхрист, и что в соборе Комбре12 есть колокол мертвых. Он спросил меня «ты пересказываешь фантастический роман?», и я ответила, что нет, конечно же – я не пересказываю тебе и твоему крохотному художественному члену фантастический роман, я рассказываю о той реальности, которую открыл мне шепот Тоддрассиля, дерева мертвых. Колокола умерших кричат, занимаясь друг с другом любовью своими криками. Я сказала, что знаю топографию сумеречных пространств. Он ответил – ты обкурилась, деточка, или ты пишешь фантастический роман. Очень дурной фантастический роман, деточка, – добавил он, и я спросила, почему же дурной?! Он дал очень простой ответ, до того простой, что я начала хохотать. Вот что он сказал «фантастический дискурс подразумевает синтез аксиомических тезисов и введение физической манифестации Другого, который в данном случае должен являться искаженной автором мифологемы», и знаешь, что я ответила ему? Правильно – иди нахуй.
11. Один из доменов Иных Народов эпохи близкой к Зимнему Луностоянию, находящийся в обозримой близости к миру смертных. Считается, что земля здесь так переменчива, что ежедневно меняет свои очертания. Это – прямолинейная метафора приближения Луностояния, точки Конца, выключения жизни Великого Прокаженного – возвышенной Ночи Брахмы и смерти искусства.
12. Мистический город памяти, «открытый» известным «путешественником на край ночи» Марселем Прустом. Известно, что Джеффи Невенмейер, вдохновляясь Комбре, создал серию музыкальных табакерок. Одну из них Джекоб Блём дарил каждой из своих женщин – обычно, на Рождество, это наиболее логично. Сердце Безумного Короля псевдочувствует штампами. Обычно, именно эта музыкальная шкатулка со стеклянным городом Комбре – становилась средоточием женского гештальта, началом истории их гибели. Остальные шкатулки находятся в частной коллекции мистера Бомонда – в Цюрихе или Братиславе.
Каждый художник – должен нарисовать картину своей тишиной. Иначе ничего не получится. Краски, вымысел и сублимация, вся прочая атрибуция портит замысел. Только тишине подвластна правда Древа Смерти. Мертвые не шумят, – в этом вся истина. Никто не готов был услышать то, что я знаю. И когда я замолчала – мир живых перестал существовать для меня.
Теперь я молча сдаю квартиры. Я продаю их желающим найти временное прибежище. Я продаю мебель. Я сдаю в аренду смерть, похоронила мать, по пятницам поднимаюсь на чердак, чтобы любоваться Тоддрасилем. Его ствол – это дневник нескончаемой некростенции. Его тело – похоже на тело Эвридики, очком сидящей на подземном царстве. Оно шелестит множеством лап, оно бархатится страшными сегментами плоти насекомых. Оно растет сквозь бесчисленные пространства мертвых. Их называют Бардо, ад и Шеол. Много всего придумано на этот счет, но художества бесполезны.
Одиночество – это заточенность гения в собственный замысел. Остается разглядывать поддельные туфли своих квартирантов, читать ожесточенные дискуссии по выходу нового бестселлера, посещать морги и смотреть, как прекрасно смерть точит свои шедевры. Нам много чего остается, Мария: вертикальный солярий, педикюр по средам, страшные сны каждое воскресенье. В конце концов гениальные картины остаются в наших головах. Мы умираем – заполненными. Мы перестаем шуметь. «Мертвые никогда не шумят», – вот что говорила моя мать. И она оказалось права. Мертвые тихо смотрят, как шевелится Древо Смерти. Вот и все, Мария. Вот и все. Вот и все, не так ли?
PS.
1) Жерико долго разглядывал трупы, чтобы воссоздать пластичность их мускульной системы на своих полотнах. Моя комната – это ход его мысли, ход его смерти. Старые часы громко поют для меня. Комната, в которой нет ничего – это моя комната. Место ссылки. И место ожидания смерти.
2) Колокольня Верхрист поднимает свою голову высоко над Зеленым Раджем, ее плач является любимым блюдом матери стаи – Кармиллы13.
13. Кармилла считается матерью ночных ведьм и паранойи. Ее страсть к безграничным интеллектуальным накоплениям погрузила Зеленый Радж в марево тревожности и разврата. Угодья Кармиллы выстроены вокруг колокольни Верхрист, колокол которой насылает безумия и скорбь, пытаясь достать своим шумом и яростью стен города Комбре.
3) Колокол в соборе Комбре – вылит из бронзы и крови, и своим плачем хочет заняться любовью с Колокольней Верхрист.
4) Свадьба Бархатного Короля – это пылающая лестница. Это огонь, облизывающий ступени. Это наш первый мальчик – ставший мужчиной – идущий по горящей лестницы. Ему не больно от пламени. Пламя пляшет по шнуркам на его ботинках. Он поднимается вверх – туда, где нет ничего, только снова и снова – горящая лестница. Художник шаг за шагом преодолевает одно и тоже пространство.
Вот и все, Мария, ничего больше. Рано или поздно – тысяча усилий – толстое тело Эвридики соскальзывает обратно в сливное отверстие.
Акт II.
Древо Клифот.
Разомкнутый адресат и вдовами
пенящийся берег Рейна – вот от кого
я зачал – ту печаль|третий глаз,
обращенный в слепую зону
тот тотентанц и зельбцерштёрунг
тех детей и ту красоту – самоколесованных
посреди воздуха
Мейфлауэр рваные мачты протоки извилины дельты
— состоящие из моей любви, составляющие мою любовь –
седьмой, восьмой и девятый
вал, безразличие, старость, майская ночь –
…где вся красота спит
в разуме омута в памяти и разомкнутости
шумит имя мое из чужого рта,
как обращение развращающего к развращенному
мой бляйбен мой фон дер – моя неприкаянность
Лотта из гесперид нити трахей в своих пальцах –
в пользу Атропос
Швейные фабрики вдовы штопают вновь
исходящие Рейном внутренности моих рук
полости четырех – моих истонченных камер
там у подножия меня
то есть там, где вода спит
и свивается в вечные кольца
бензола прозака шиллера беркенау кадавров в моем
тотенкляге
в моем дисперсивном завтра
вдовы штопают ночь
на месте выгнившего третьего глаза
8. До крика петуха…
У нее был муж, у него была жена, но это ничего не значило. Миссис *** и мистер Бомонд состояли в плодотворно-интимной связи, и это опять же ничего не значило. 1933 год, два часа до Лондона, – в этом что-то было, но она не могла понять что. Видя себя со стороны, она видела: острые плечи и сильные ноги; видя себя со стороны, она не могла сказать уверенно, что эта женщина решила покончить с собой, будучи этой женщиной – она знала это наверняка. Никак не удавалось забыть запах легкой плесени, исходящий от сыра, и поэтому она решила умереть. У нее все было слишком хорошо, и поэтому она решила умереть. Она считала себя лучшим читателем Вирджинии Вулф, и поэтому она решила умереть. Ни разу в жизни миссис *** не смогла преодолеть страх перед миссис Вулф, прочесть хотя бы одну ее книгу, зная, что сила этой книги сокрушит и острые плечи и неловкое сорокалетнее лицо; она знала наверняка, больше чем что-то другое, что миссис Вулф – была гением, и для этого вовсе не обязательно читать хотя бы одну из ее книг.
Этого всего было достаточно, чтобы хладнокровно решить – пришло время умереть, миссис ***.
У нее был муж, а у него была жена, и поэтому мистер Бомонд вежливо спросил:
— Все нормально?
— Да, – ответил я. Глядя сквозь свою мать, я не понял, почему она спрашивает, все ли у меня нормально. Потом я посмотрел на поезд. Тот застыл посреди ночи, и, глядя на него, я продолжал не понимать, почему моя мать находится здесь. Обычно она занята разводами, налаживанием личной жизни, и я не знаю, почему она находится здесь и сейчас – Москва, 2002 год – и делает вид, что является хорошей матерью. Я отвечаю, что да, все нормально.
Мы стоим на перроне, меня ждет поезд через Украину, с пересадкой во Львове, до Братиславы. Перрон заполнен людьми, одна парочка слишком громко воркует, мама краснеет, потому что мы никогда не обсуждали, есть ли у меня личная жизнь, а сейчас обсуждать слишком поздно, и она просто краснеет от того, что кто-то кому-то признается в любви, а мы находимся рядом, никогда не обсуждавшие подобного и потерявшие время обсудить.
Я прислушиваюсь.
— Мы правда до конца будем вместе?
— До крика петуха, – тихо отвечает миссис ***. На ней платье с серыми тюльпанами, платья сдавливает и не дает дышать. На пару мгновений она отвлеклась, чтобы вновь увидеть хищные глаза Вирджинии Вулф, будто коснуться этого – «я… я люблю Вирджинию Вулф, может, даже, как женщину…», а сейчас вернулась. Ее муж тянул трубку и смотрел на нее жалостливо и побито. Наверное, он ощутил, что именно сегодня ее потерял, ведь до этого ни разу в жизни он не говорил с женой о любви.
Потом она берет книгу. У него есть любовница, у нее есть любовник, они отужинали, как хорошая семейная пара, он читает газету, она читает книгу. Мужчина был одет в странного вида пальто… Она думает, что Вирджиния никогда бы не начала свою книгу столь глупой фразой; она не может сосредоточиться и думает о том, знает ли ее муж, догадывается ли ее муж, чувствует ли ее муж, что сегодня станет вдовцом. Или не чувствует?
Мужчина был одет в странного вида пальто. Его звали Джекоб Блём, и он исполосовал своим горем все европейские города. Он закончил двадцатый век в едва заснеженном Берлине и сразу же помчался дальше. Он не знал, что происходит, и ему стоило бы умереть, потому что жизнь ничего не стоила. Заражая каждый город этой мыслью, он убегал дальше, туда, где мысль о смерти еще не свила свое гнездо.
Братислава, 2002 год, он ощущает, как тонкое лезвие парикмахера приводит в порядок встрепанные бакенбарды. Он старается не думать ни о чем, лишь чувствовать тонкий нож на бакенбардах. Потом он понимает, что не думать нельзя, и начинает думать о том, какую книгу купить. Нужно что-то… чтобы хотя бы сегодня мысли не заползи в гостиницу. Он остановился в просторном номере с видом на заснеженную улицу, но это не значило ничего. Ему нужна была книга, которая позволит не осознавать, что это не значит ничего, или…
Ему нравилась Вирджиния Вулф. Кажется, он ощущал в ней огромное горе. Джекоб Блём знал, что, если сегодня будет читать ее – утром уже не проснется. Тогда он вытянул следующую книгу, и уже хотел было вернуться к Вирджинии, но нечто остановило его. В тихом зале медленно гасли лампы. Девушка-продавец что-то сказала, но Джекоб не знал этого языка, ему лишь показалось, что она говорит: мы закрываемся. И поэтому гасли лампы. Он вернулся к книге, но девушка снова что-то сказала. Тогда он оплатил и вышел в снег. И только в своем холодном номере понял, что его вынудили купить. Что-то, допускающее, что «Лолита» Набокова – исповедь Гумберта своему врачу; что-то допускающее и содержащее ЭТО под своей обложкой, что врач отвечал Гумберту. Что все это – взаправду и имеет значение.
Как и обычно, Джекоб боялся, что книга кончится плохо, поэтому открыл последнюю страницу и начал читать с нее14. Письмо лежало среди прочих других. Тесный пакет дружеских посланий неявного содержания был перевязан зеленоватой лентой. Едва уловимое прошлое пахло гвоздиками и этим снегом. Я знал, что эти письма лежали спрятанными достаточно долго. Их привезли в Словакию и оставили, чтобы они начали пахнуть снегом. Выйдя на общий балкон, я ощущал этот же запах. Вся Словакия пахла так, и пачка писем, которую я нашел в небольшой нише, спрятанной между пыльными полками в чулане.
14. …PS: «Даже больше, Гумберт, ведь именно ты сделал ее Лолитой. В своем письме ты говоришь, что хотел съесть, хотел съесть маленькую Ло с потрохами, потому что она – Лолита, потому что ее имя – как едва обжаренное мясо на языке – ты хотел съесть ее и не съел, и оттого она умерла, но, Гумберт! Нет! Это не так. Даже больше, Гумберт, ведь именно ты сделал ее Лолитой, именно ты заставил ее умереть, потому что она стала Лолитой. Ты хотел съесть самого себя, став жертвой губительной жажды зубов перемолоть собственные же корни; ты боялся творения своих поцелуев, ты хотел убрать его обратно в гортань, и она умерла, потому как ты был слаб и не сделал подобного»
Это было мое первое самостоятельное путешествие по Европе. Меня слегка тревожило, что остальные успели познакомиться еще в поезде, а я вновь опоздал. И они, сбившиеся компаниями по три и четыре – пугали. Как темные тучи, еще разорванные, говорят о грозе, они – говорили о чем-то. А еще эти письма. Среди них не нашлось ничего, что могло объяснить это чувство безраздельного ужаса. Оно поселилось внутри. Я думал, что это – моя молчаливая влюбленность в бледную девушку из девятого класса; подсознательное, что пока я здесь, а она там, что-то случится. Но на самом деле мы даже не были знакомы, и этот страх – что-то другое. «…когда ты говоришь, будто слышишь в темноте ее кожу, ты говоришь о запахе или ты наблюдаешь цвет? Когда ты говоришь, что в ней лежит трансцендентальное зерно, правее сердца, и оно умирает от старости – оправдываешь ли ты себя, Гумберт?»
Я слышал поезд и дремал. Иногда было не отличить сердца от шума колес. Холодная струя воздуха упрямо бьет по лицу. До меня долетело «Что-то не так?», – это лысеющий мужчина спрашивал женщину. Его голос был высохшим и слишком звонким. Он ехал научить своего сына кататься на лыжах. С ними была женщина, с которой он – в разводе. Я не знал, едет ли он именно затем, чтобы научить своего сына кататься, или же внутри него были другие мысли. Мне казались, что были. Они стояли за этим высохшим и звонким голосом.
За этим
«Что-то не так?»
все было совсем не так.
Засыпая, я слышал, как он повторил:
— Что-то не так?
— Что? – Джекоб уже почти заснул. Холодная Братислава его утомила. Открывая дверь, он думал, просил ли не беспокоить или нет, уместно ли нахамить этой даме с накрахмаленным лицом, в накрахмаленном платье горничной. Она что-то сказала, но Джекоб плохо знал английский, а у нее был плохой английский, но, наверное, она спрашивала, не дует ли из окна, или что-то такое. Что-то неважное. Наверное, еще не слишком поздно, просто уже стемнело по-зимнему, и Джекобу хочется спать. Он пытался объясниться на пальцах, а когда она не поняла в пятый раз, что все хорошо, ему захотелось сказать правду, что все очень плохо. Может, она зайдет. Незамужняя, стареющая, может, она его пожалеет. Тогда она зайдет, они погасят свет, не будут понимать языков друг друга, и она проверит (как будущая жена Джойса проверила: тепло ли твоему паху, Джеймс?) не дует ли из окна; если он не сдержится, ей придется гладить его по голове. Джекоб знал, что она будет думать что-то очень тривиальное: о том, что, наверное, у него разбито сердце, и вспоминать, как и у нее разбилось сердце когда-то давно. Джекоб заставил себя посмотреть ей в глаза. Да, ее сердце было разбито, поволоченные легкой полутьмой глаза говорили, что так и есть. Нет, все в порядке.
Он закрыл дверь. Вновь ощутив холод, он хотел попросить ее вернуться и все же проверить окно, но затем взял себя в руки и сам прикрыл форточку. В темноте он смотрел, как за окном медленно растворяется в снегу всякая жизнь. Большой мужчина гладил свежий автомобиль, и было понятно, что он купил его только сегодня или только вчера. Две женщины о чем-то молчали, или говорили, но Джекоб не мог услышать. Да, наверное, они говорили о чем-то… неважном. Может быть, даже каждый день; каждый день говорили о чем-то неважном, и каждый день кто-то выглядывал из гостиницы и пытался подслушать их неважные разговоры. Молодая девушка что-то беззвучно выкрикнула на другой стороне улицы, его лоб напрягся, кожа почти надорвалась, но молодой человек не сдвинулся, и ни одна его морщинка не сдвинулась тоже; и девушка, увидев это, побежала, исчезла из виду.
И потом… старый костел пытался ударить в колокол, но снег облепил язык. Снег облепил надгробные плиты, похожие на больших овец, и старое распятие. Снег пристал к ранам на голенях натуралистичного Христа, к зеленоватым нарывам в ладонях и бороздкам почерневшей крови. Колокол еще раз беззвучно ударил. А затем еще раз, и еще раз, и еще раз, и тогда Джекоб снова пронзительно ощутил, что куда бы он ни побежал, где бы не пытался укрыться, сменяющие друг друга кровавые рассветы найдут его и будут сменяться бесконечно, а внутри продолжит клокотать мрак.
Он закашлялся, но это было уже сквозь сон. От собственного кашля разлепив глаза, Джекоб нашел себя на коленях, все еще смотрящим в окно. Колени и подбородок затекли. Снаружи все уже стемнело, и наступила ночь. Теперь даже женщина с плохим английским не зайдет узнать, все ли хорошо, не дует ли из окна, не дует ли в сердце, смораживает ли от отчаянья в глотке… теперь уже нет, не зайдут, только темнота. Даже снег казался черным, фонарей почему-то не было, или они заснули. Но казалось, что колокол продолжал бесноваться. Миссис *** знала, что это колокол загробного мира. Когда ты умираешь и перешагиваешь тонкую бритву, медленно из тумана выходят метафоры посмертного существования. Человек слишком ограничен, чтобы его посмертие имело иные атрибуты, чем жизненное бремя. Поэтому там есть колокол, окруженный запахом цианистого калия звонарь, сплетенная из черепков, осколков хрупкого мрака и опия цепь держит колокол под сводами костистого донжона, время оторвало мякоть его серой стены, «Мария Целеста» гудит клаксонами, черная и густая вода перетекает по костям миссис Вулф, продолжает нести свою тайну и омывает оголенный торс Индии, а потом конденсируется и сбрасывает ее кости на тибетское плоскогорье. Она давно поняла, что сладкий сироп от кашля обостряет нервы, вызывает каталепсию и нарушение зрения. Прибавив к этому сиропу депривацию сна, миссис *** могла узнать, каково быть мертвым. Ей мерещилось, как пляж – это голый и вязкий ил, физические процессы выталкивают кроткую реку из берегов, и поэтому ил всегда влажный, похожий на кровоточащую десну, осклизлый кустарник на берегу, как скелет, обглоданный скелетик птицы, мертвое устье реки, сумрачная дельта, и бриз потустороннего колокола несет свои запахи и тревоги. Вода не имеет настроения. Она вне категории боли. Она не бывает радостной. Ил ясен и одновременно размыт, своими призрачными формами похож на человеческую жизнь. Когда сироп застывает на губах, странное чувство сковывает горло, и ты понимаешь, что такое смерть: миссис *** чувствует, как холодные пальцы Вирджинии Вулф крепко держат ее в танце, слышит крики Ричмонда и отвергает эти крики, танец с утопленницей, а зрение, нарушенное сладким сиропом, позволяет видеть Вирджинию так, как миссис *** всегда представляла ее, – каталепсия и старые пристрастия к алкоголю размыли реальность. Остались только мысли о посмертном существовании. О, если бы можно было в раз лишиться суеверий и больше не знать об идеях воздаяния или перерождения, Джекоб бы больше не боялся.
Он бы снял комнату в Берлине и ждал дождливой ночи. И тогда он бы смотрел, высунув разрезанные руки в окно, как вытекает жизнь; ощущал бы, что тело сопротивляется, раз за разом пытается сомкнуть края ран, терзать сердце надеждами; дергается и просит Джекоба спастись…
…но проигрывает, жизнь смешивается с дождем и к первому крику петуха оседает лужицами на Альфонс-штрассе, и прохожие наступают в лужи. В этом был особый шарм – пачкать собой свежие ботинки работников крупных фирм и супермаркетов, искристо существовать в предельной к ним близости в то время, когда они даже не догадываются о существовании Джекоба Блёма.
Небо все в рваных тучах. Казалось, что пойдет дождь, но миссис *** не стала дожидаться дождя. В этом году в моду вошли французские камеи, все женщины сходили с ума от бус из муранского стекла, жемчуга были забыты, а еще были туфли с узорчатыми швами наружу, декорированные терновникам или красными нитками распустившихся роз. На миссис *** была камея с зеленовато-размытым, будто мандала или спил крохотного ясеня, образом медведя в погоне за самим собой, медведь-уроборос под ярким полуденным светом казался карикатурным, а в ночи призрачным, едва уловимым знаком и самым главным правилом жизни. Эту камею привез мистер Бомонд, снявший летнюю веранду с ее прожаренными и гулкими стропилами, осиным гнездом и завтраками от горничной миссис ***. Он был истинным ценителем стропил и осиных гнезд, пунктирной линией французских салонов, медведем-уроборосом.
В миссис *** он нашел притягательную силу смерти, затаенных демонов или мандалу особого тона на спиле ее жизни. На веранде, где жарко нагрето, и он зажигает посаженный на иглу шарик опия, они вступали в странные связи. Бомонд засыпал, оставив руку меж ее холодных ног, или она засыпала с пальцами, погруженными в Бомонда, в рот или его черный ход, с особыми вздохами антиквар впускал в себя миссис ***, но никогда они не вступали друг в друга вычурно, по моде французских салонов, их связи были призрачны и едва уловимы, как медведь-уроборос. Он выливал глинтвейн на ее грудь, и смотрел, как тот воспаляет сосцы, затем медленно слизывал глинтвейн и позволял миссис *** вытянуть его своим ртом из его рта, а затем ложился на пол, художественно откидывал руку (пальцы хватаются за ножку стола из красного дерева), и позволял ей рисовать узоры гибели на склонах его сизых ребер, или облизывать крайнюю плоть, немного оттягивать ее зубами и причинять роковую боль. Выделения были под запретом.
Каждая мандала подвержена внутренней логике. Знания о точках позволяют расшифровать линии и общий умысел. Утренний туман в воспаленном зрении миссис *** казался зернистым, как влажный снег. Небо состояло из точек и линий. Мертвые двигались быстро, их тени проступали сквозь утренний мрак, выходили из сочного прибрежного ила. Все они выражали идеи и категории, не умирающие во тьме гениальности и бесконечные огни. Нервы миссис *** напряглись, руки застыли в распятии, спину поглотил туман, на шее следы утренней грязи, а в волосах зелень выброшенных на берег водорослей, крохотная личинка стрекозы ползет по ладони, теряется на пустыне этого огромного тела, мечтает о недосягаемо-высоком камне ядовито-зеленого цвета, магической камее; полупрозрачная личинка методично движется – от медленной и затхлой кожи к мистическому камню на груди женщины. Последнее дыхание Бомонд забирает себе, а его пальцы ощущают твердый и льдистый клитор, затаивший свою жизнь внутри мертвой женщины. Миссис *** кажется, что много-много-много Вирджиний вышло сегодня на берег, платье зеленого стекла, муранские бусы, камея для королевы стрекоз, разорванные на клочья тучи немного напоминают детство, мягкий податливый ил – объятья мужа, а поцелуи личинки на стылом запястье – таинство женской дружбы в пансионе «Санта-Мария», губы не чувствуют ничего, сладкий сироп от кашля парализовал ее горло. Перед смерть миссис *** слышала свои тайные имена – Сиэль, Саломея, Стелла и Астра – и думала о Франциске Ассизском.
Франциск умел слышать, о чем плачут птицы. В его честь названы многие базилики. Джекоб просыпался от собственного кашля и видел одну из них, сухие стены, немного сморщенные окна и заплаканные витражи. В сумбуре сна приходили погасшие влюбленности, приснопамятные имена и лица, замещенные лицами святых, Джекобу казалось, что он влюблен в самого Франциска и его идею, он не мог вспомнить своих перекрестий и пересечений, в груди было грубо скроенное распятье из тиса или ольхи, но какие-то сумбурные имена воспаляли нервы, какие-то фрагменты прошлого были отдаленно знакомы, тревожное эхо напоминало, что желание умереть имеет потаенные корни. Но мистер Блём всегда наблюдал мир, будто сквозь снег, его видения никогда не были достаточно контрастны, чтобы ясновидеть собственное прошлое. Сумбурные переживания и кашель наполняли собой его тревожные сны об улицах с выгоревшим асфальтом, о потаенных вселенных с вечным дождем, о дрозофилах, оплодотворяющих самих себя, мистериях Изиды и элевсинских рождениях Вакха, о себе самом в исполнении Тициана, Рахманинова и Боттичелли, о самом главном: о людях, которые вбили гвозди в красивые запястья ночи, об утраченной идее божественной любви; о людях, которые вбили гвозди в красивые запястья любви, об утраченной идее божественной ночи, – приступ кашля, как погружение во тьму, остаточные боли в легких, как вспышки окровавленного маяка, Джекобу вновь было страшно, как ребенку, за то, что он знал: во тьме живет нечто, хохочущее над идеей божественной любви; нечто, подзадоривающее людей вбивать гвозди – в красивые запястья небосклона. Сквозь эту ночь плыла тревога в своем сером хитоне тумана и влажного дождя, и Джекоб видел ее, когда просыпался, рыбу-тревогу, плывущую над сводом св. Франциска Ассизского.
Мы остановились в двух часах от Братиславы; город, отстроенный вокруг горнолыжного склона, старается удержать вес за счет денег туристов. За склоном начинается старое кладбище, под снегом надгробия напоминают овец, отара мертва, засыпана влажным пеплом. Подъемник издает протяжные стоны, чтобы натянуть свои цепи, их лязг долетает до кладбища, влетает в окна домов. Наш лицей вбирает в себя каждый социально-значимый элемент, у нас есть дочери ночной Москвы, есть сын брахмана, приносящий в класс ожерелья из человеческих черепков и тантрические лезвия, позолоченные украшения и воспоминания его детской Индии: о шудрах с грязными ногтями, тихих посвящениях для брахманских сыновей с балийскими шлюхами под присмотром отца, о той женщине, убившей его невинность, о звуках погружения в ее темное смуглое лоно, о катарсисе четырнадцатилетнего брахманенка в ее потных объятьях на дряхлой циновке, о наркотическом воздухе благовоний. Мы живем в доме словацкой семьи, в комнатах на четырех человек – я, брахманенок и еще двое – в трех комнатах из пяти на втором этаже этого дома; завтрак, обед и ужин, лыжное обмундирование и гид включены в стоимость. Хозяина дома зовут Гумберт, его суровая расплывчатая тень иногда заполняет коридоры. Оглядываясь назад, я понимаю, что его симптомы и повадки были очевидны, слюнявый рот рассказывал все тайны своего хозяина. Когда-то свадьба мерещилась ему искуплением и переходом в новое состояние, сейчас Гумберт, отец двух дочерей, вновь во власти своих болезней, размеренное существование вернуло их к жизни, здоровый сон и семейные совокупления наделили их властью, взрослый одеревеневший в бесчувствии Гумберт научился жить двумя параллельными жизнями, вытеснения и внутренние баталии подошли к концу, кокетство, самобичевание и залысины властвовали над его внешностью, сальные железы окислили душу, черные перепонки желаний шуршали внутри него, череп Гумберта был заполнен нескончаемыми рядами детских гробов, и ему казалось, что это – мертвые бабочки свили гнездо внутри стареющего черепа. Он завел собаку, когда дочери перестали играть роль домашних любимцев, странные фантазии вынуждали его утягивать ошейник до асфиксии, долгая боль сделала сердце пса черным, как у самого Гумберта; они плавились в чане раскаленного гноя, от злобы Гумберт грыз ногти, а пес кусал тех, кто подходил близко. Женщины дома безмолвствовали, их молчание расширяло катакомбы подземных кладбищ, гематомы и насилие сделало их нрав кротким; Гумберт перестал брить подмышки с того самого дня, когда понял, что брак – это не инициация, не излечение и даже не лезвие.
«Педофилия, расширенная за пределы патологии, является феноменом, сходным с гениальностью. Гений не способен умещаться в рамках собственного тела и гений, неспособен относиться к себе снисходительно. Педофил так же расширяет себя за пределы собственного естества посредством детерминации: уничтожение того, кто мог бы быть (или был) порождением его собственных чресл, приводит к самоуничтожению, к полнейшему эсхатологическому восторгу. Мне приходилось видеть тех, кто не мог полностью развоплотить себя посредством одной жертвы (и таковых большинство), но идеальный или гениальный педофил – тот, кто четко просчитал траекторию и сумел уничтожить свой атом одной единственной правильно подобранной жертвой, той, кто является истинным зеркалом его чресл и его самого. Гениальный педофил, как жрец, воплощающий идею судьбы в реальность, и подвергает насилию лишь того, кто обязан быть изнасилован», – прочитал Джекоб.
Утренняя Братислава наполнена шумом, мистер Блём наблюдал, как целая свора трупов выстроилась в очередь на исповедь к святому Франциску. Их продолговатые пегие лица, как хлопья снега, струпьев, гнойничков, тайных лабиринтов метастаз и судорожного кашля. Их естество раскроено ветром на части: жертвы обманов, священников и пустосердия, – рыжий пес вертится у мертвенно-стоптанных ног, пес-живой, как яркое пятно посреди Братиславы. Утром она – наполнена яростным шумом, тысячи голосов вновь нагоняют Джекоба, «вспомни! Вспомни нас!», и какие-то тайны прошлого приоткрываются на минуту, кажется, что жизнь – это рана, сморщенные края источают давно забытую вонь, силуэты людей, домов и гостиниц, Джекоб не мог помнить этого ясно, но было очевидно, что все это имеет какое-то отношение к прошлому. Но он не хочет вспоминать, заползать в расползшийся шов, он снова куда-то мчится, и когда проходит мимо Ассизского, ему кажется, что стекла церкви – это перепонки, трепещущие на ветре воспоминаний, слизистая раздражена, горло раздирает кашель, коже холодно, нарушение сна и аппетита, какой-то тяжелый недуг живет глубоко внутри, мистер Блём не знает его имени, но чувствует, как мышка-песчанка копает нору к центру его души.
«Ярость Вашей болезни не убивает, она покрывает Вселенную пленкой густо-черной смолы или дегтя…», – читает Джекоб в автобусе, а из окна виден холм, укрытый снегом. Погосты кажутся овцами. Пастух где-то рядом. Он не был жнецом, Джекоб всегда представлял пастуха подобных овец – человеком-с-ножницами, смерть всегда так чудовищна, приносящий ее вооружен ножницами. Пророк всегда устремлен вперед, он видит, его не интересуют математические ребусы и метастатические причины, критские захоронения и мандалы, он просто видит и не может иначе, – Джекоб никогда не вспоминает.
Тихий город погружен в ощущение праздника. Здесь тишина рокочет, и тревога дремлет в глубинах старых строений, подвалы отравлены тайнами, магазины распродают столетия, одиночество зацветает в сердцах, рыба-чума спит в местной реке. Я уходил в город от разговоров и вечерних пьянок. Брахманенок тратил индийское золото своего отца на «хенесси» и «джек дэниэлс», его приятели заполняли нашу комнату и пили до черноты; их свежие организмы просыхали к утру и устремлялись на горнолыжный склон, они радовались скрежету подъемника и девушкам в цветастых вязаных шапках, их сноубордам и их неумению; с горы – соскользнуть быстро, в этом она похожа на жизнь, смерть, оргазм и спазмы. Город был противоположен горе. Каталепсия, эпилептические припадки, рак грудного механизма противопоставлен пьяной драке, убийству и остановке ритма. Каждый дом сдается в аренду, в каждом своя тихая тайна и тихая семейная жизнь. По субботам женщины посещают кладбище, стряхивают снег с уснувших овец. Город – бесконечная менопауза, внутреннее кровотечение, почечная колика. Почечная колика заставила Гумберта схаркнуть в раковину клок желтоватой слюны, ее нити все еще стягивали губы, отравленное дыхание разъедало не только комнату, но и сами его внутренности. Жизнь в этом теле была омерзительна: сколько себя помнил, Гумберт находил это тело больным: то выпадали волосы, то сильные морозы сковывали яички, и мочеиспускание начинало приносить боль. Гумберт не помнил дней радостного солнца, его жизнь пролегала сквозь ядерный реактор, мясоразделочную и темные коридоры прошлого. Внутри этого комбайна, молящего муку, жила ярко-красная птица страсти. Единственный остров в гнойно-желтом океане будней.
Он хранил свою переписку с психиатром, как сентиментальные письма в бутылке, записи старинных романсов своей венгерской родины, патефон матушки и крохотную фотографию своей Долорес. Ло на велосипеде, который он подарил ей на шестилетие. Трагедия, похожая на падение в озеро Бодом. Очередная жертва свергнутой словацкой королевы – Эржебет: Долорес с мышиными волосами и тонким голосом. Долорес на велосипеде. И Долорес, умершая самой страшной смертью из всех. Она упала под подъемник, а теперь Гумберт каждый день слышит его шум, в этом очень легко сойти с ума, его первая дочь чувствовала, как коченеют пальчики, но не могла позвать на помощь, бездушный подъемник разбил ей череп, и от боли она потеряла возможность кричать. Гумберт бежал через снег, и пес Гумберта бежал, но они нашли, когда было слишком поздно. Маленькая Ло уже была, как труп птицы, разбитая, невесомая, она терялась в огромных ладонях своего отца, пес плакал на звезды и облизывал ботиночек Ло. Долорес на велосипеде. Маленькая грустная Долорес, умершая на обочине горнолыжного склона. Сердце Гумберта черное, как южная ночь. Но внутри живет какая-то ночная птица. Папаша пошутил, назвав его Гумбертом, и он пошутил тоже, назвав свою первую дочь Долорес. Шутка удалась, крохотная Лолита, как воробей, потерявший перья, погасла навсегда. Кто-то погасил свет, а Гумберт больше не боится темноты с той ночи. Пес плачет на звезды.
Джекоб Блём любит собак. То, как они преданно плачут, ласково плачут. В 8:47 по местному времени он видит красивого пса, похожего на звезду, у магазина сувениров. В 8:56 идет по дороге, убаюканный тишиной.
В 8:34 Гумберт выходит из дома за покупками.
В 9:04 они сталкиваются с Джекобом на старой площади с остановившимися часами.
«…чаще всего нужду в самоуничтожении чувствует те, в ком не упокоены детские травмы, в ком родительские репрессии или разводы живут самостоятельной жизнью. Эти чудовищные потенции всегда видны за много просторов вокруг»
В 9:06 по наручным часам (которые, возможно, спешат на пару минут, а значит, встреча происходит синхронно) Джекоб Блём видит Гумберта, черное зеркало в раме человеческой плоти, голова полнится непонятным шумом, отвращение скребется в душе.
Презревшие друг друга с первого взгляда они навсегда расходятся в 9:08 по часам Гумберта, и теряются друг для друга в пучине взаимного отвращения.
К полудню они не могут вспомнить друг друга.
Ровно в полдень (так получилось) мистер *** хватился своей жены. Через четыре года и шесть дней с того полдня, ровно в полдень (так получилось) вдовец *** порвал со своей любовницей миссис Хеджтон, и переехал в Лондон. Весной 1941 в 19:07 миссис Хеджтон принимает цианистый калий, чтобы облегчить раковые боли, две последние минуты своей жизни они почему-то думает о мистере Бомонде, старом антикваре, ставшим началом ее медленного падения, о холеном господине в старомодном сюртуке, о том, кто ни на кого не похож, кто не имеет аналогов, кто сотворен будто не человеческой спермой и не в чреве женщины. Этот припадок божественного откровения прерывается действием цианистого калия. Весной 1942 в 13:37 умирает единственный сын миссис Хеджтон. Его сердце останавливается внезапно, без всяких на то причин. Он помнит красивую миссис ***, первую свою детскую любовь, похожую на разряд электричества; презирает свою мать за фразу «она слишком старая для тебя», умирает мгновенно, а в кармане его клетчатого пиджака остается билет на вечернюю театральную премьеру. Осенью 1988 мистер Блём со своей женой посещает тот самый театр, который не сумел посетить сын миссис Хеджтон. Через два года с того спектакля, ровно в полдень (так получилось) мистеру Блёму приходит навязчивая идея о разводе. Через четыре месяца в 9:06 по наручным часам, он получает развод и начинает свое грустное путешествие. В полдень сего дня, когда он уже ничего не может вспомнить о Гумберте, его начинает мучить головная боль.