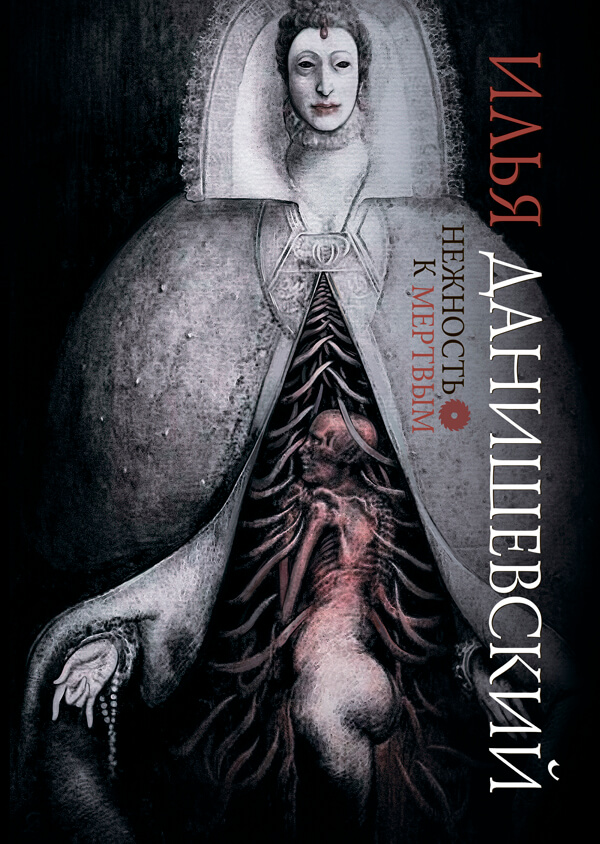Страница:
5. Песни утонувших в себе
За четыре дня до Рождества Джекоб нашел отрезанную голову голубя. Очередной знак на пути. Кто-то аккуратно перепилил шею и оставил знак на дороге. И он поделился со мной своей находкой.
Кто-то уже увидел нас с мистером Блёмом. Во время экскурсии в старый замок они шутили вполголоса, в открытом аквапарке – громко заламывали руки, и жаловались преподавателям, что не могут переодеваться передо мной. Я знал, что скоро это закончится. Но меж тем, этот «конец» обрывал нас с Джекобом, я не верил в переписки и заочную дружбу. Меня раскалывало на части, к примеру, в его номере, когда мы рассматривали голову умершего голубя. Мне хотелось сказать что-то вслух, но мистер Блём был слишком вне этих слов и этой Вселенной. Его вечность была разбита на сегменты от кашля до кашля. Он мучился тяжелыми думами о том, что одно его приближение будит в людях потаенных демонов и дарит демонам форму. Скажем, там, где его нога, внутренняя злоба превращается в гной, там, где Джекоб, всегда происходит преступление, самобичевание и страх застыли на нем суровой печалью, мои озвученные мысли лишь подтвердили бы его ужас. Но там, в его номере, мне не было страшно, привычная тревога, растянутая сквозь «сейчас» и «вечно» отступала, отступал и образ моей экзальтированной возлюбленной, ее имя скрывалось в темноте. Я проводил с ним все отведенное мне свободное время, и иногда у меня больно сжимало сердце, когда он кашлял. Мои сны стали истеричны и поверхностны. Может, мне было трудно спать в комнате с теми, кто громко смеялся над какими-то призраками. Они жаловались Гумберту, что не хотят жить со мной. В моих снах были реки-страх и рыбы-расставание, мое минутное знакомство с дружбой скоро разомкнется с той же силой, как разомкнется с унижением. Я вернусь в мир тихих книг и улиц шумной столицы, в беспросветный город, в потроха рыбы-суеты.
Джекоб и его усы были восторженными фантазерами, находящими Вселенную в лужах, больно сопереживающими их одиночеству, в папье-маше и хрустальных мишках из магазина сувениров. Иногда, когда уже смеркалось, мы слишком близко подходили к слову «гомосексуальность», в испуганном небытии этих минут Джекоба переставал мучить кашель.
Мои сверстники мазали друг другу лица зубной пастой, говорили о сексе и мастурбировали в душевой кабине. Брахманенок праздновал какой-то индусский праздник и расщедрился на выпивку для всей компании. Меня тоже позвали, и я сидел среди них, где бутылку пускают по кругу, и боялся уйти. В тишине никто не говорил обо мне и никак на меня не смотрел, мой уход мог привлечь внимание. Каждая секунда – умерший медведь. Каждую секунду – Джекоба становилось меньше.
Иногда мне хотелось все ему рассказать. Или чтобы он был моим отцом. Иногда Джекобу хотелось, чтобы время остановилось в определенный час, ему было интересно, как люди отреагируют на то, что солнце застыло в одной позиции, он представлял себе массовые истерики и всеобщую панику. Или что бы случилось со средневековым Парижем, посыпься на мостовую вместо дождя подшивка «Плейбоя», что будет, если начать храпеть во время мессы, что же, если сделать что-то такое, когда выйдешь за собственные берега, будто погрузить жизнь в стазис, что тогда будет? Потом он возвращался к своим страшным мыслям о смерти, о том, что Смерть – это человек-ножницы, что он видел, как умирают люди и как идет дождь над их душами. Что в воздухе он слышит запах беды, но, как обычно, не может понять предсказание. Что рыба-ужас ухмыляется в небе, а люди думают, что это – распухшее солнце. Что его приближение пробуждает зло. Что рыба-ужас в этом городе по вине Джекоба. Что он слышит голоса. А что будет, если Вселенная перестанет пропускать волны, и все мы погрязнем в темноте и бескрайней тишине? «Все они станут – как я!»
Дыхание Гумберта стало черным. В ожидании Рождества он застыл как вкопанный, посреди собственной жизни. Ло умерла. Этот факт прочерчивал всю его жизнь, но только в Рождество он обретал мясо и пульсировал, как красновато-черный шрам посреди души. Гумберту казалось, что злоба выходит из него с тошнотой, утренней отрыжкой и газами. Дом был наполнен лишним шумом, пьянками и распутными девками. Иногда он задавался вопросом, почему никто из туристов не умирает от подъемника, а Ло умерла? Или почему они не слышат, как скрипит велосипед в тихом теле умирающего от рака дома? Разглядывая собственные желтоватые сгустки, облепившие пальцы, Гумберт думал о тошноте, о божественности этого процесса, об очищающей тошноте, о тошноте, которая преследует всю его жизнь сквозь ритуальное самосожжение отца и смерть Долорес, от Рождества к Рождеству, о тошноте, имеющий собственный ритм, собственный голос, о ночи Страшной Тошноты, которая всегда наступает в Рождество.
Его образ, его повадки, его тип телосложения, похожий на телосложение Джекоба, навсегда запомнился и ярко горит в темноте. Так, сквозь это сходство, я легко понял дуалистичную природу Бога, ангела самосожжения и бесконечную пустоту; все мои привязанности и ужасы в одном корне этого строения черепа, этого дыхания и этой грудной клетки, способной проглотить мир. Мрак безраздельного сизого одиночества.
В темноте мистер Блём медитирует над отрубленной головой голубя. В глазнице ему мерещится лик Якоба, святость этого ореола и имени; он плачет в свои ладони, в метастазах своей влюбленности, в своем горестном отцовстве. Кладет отрубленную голову, как на алтарь, попирает ей ответы психиатра Гумберту Набокова. В тихом омуте живут рыбы, в грязной воде живут рыбы; как рыбы, скользкие люди скользят по проспектам и раковым опухолях своих романов, как главные герои своих морей, не верят, будто что-то ухватит их за илистые жабры, не верят в отмели и моряков; лиловые рыбы-потаскухи курируют проспекты, чудовищные сомы по имени Саломея, Ингеборг и Сиэлла живут в черном небе; Дева Голода плавает под Словакией, вспоминая мистера Бомонда.
Я подарил ему свитер из теплой ткани. Он подарил мне букет желтых роз и сказал «я никогда тебе ничего не скажу лучше», и потом мы договорились, что после Рождества, когда все разойдутся спать, я улизну, и мы сможем пройтись по ночной улице. Посмотреть, как спит подъемник. Я не знал, зачем мистер Блём подарил мне цветы, но когда я шел домой, общая неправильность этого жеста медленно развивалась внутри, каждый лепесток был жестом отречения и раскаяния, живущего внутри Джекоба, каждый шип был вынут из его полнокровного тела, а я знал, чем станет моя жизнь, покажись я при всех с цветами от «дружка»; Гумберт видел, как я прячу розы в сугроб, спелые, как гной, уготованные печали. Вот таким я запомнил Джекоба: бесконечным путешественником сквозь поле из желтых роз, с заплаканными и уставшими от нескончаемости процессов глазами, в серой дубленке и запорошенной снегом шапке. Вот таким я запомнил Гумберта: в желтой слизи раннего заката.
…Джекоб показал, что снег не падает, а поднимается с земли и еще выше. Падение – всегда иллюзия. «Вот когда я таки упал с этого голубя, тогда и стало понятно, что падения не существует. Я всегда заблуждался, называя небо – верхом; нет – все совсем не так однозначно». Так что снег поднимался вверх над нашими головами; в почти истинно-черном небе белело бельмо луны. Было видно, как подъемник все еще наматывает на колесо цепь, как кто-то поднимается вверх, кто-то катится вниз, наверное, я даже мог разобрать несколько знакомых силуэтов, но Джекоб выдыхал все более густые клубы дыма, и уже скоро все знакомое исчезло в его дыхании.
— Мне было странно, что голосов давно нет. Я даже не ощущал, как больно без них. Как больно в Нормальном состоянии, в таком, как все люди, когда некуда бежать, не от кого бежать, все размерено и растянуто. Это оказалось страшно. Я могу быть здесь, сколько захочу; здесь, на этой лавке, в этом городе или пить глинтвейн, курить в кабаках и просто гулять столько, сколько захочу. А раньше я всегда бежал и… это оказалось страшнее. Мне совершенно нечем себя занять. И поэтому вчера я сидел и долго смотрел в мертвый глаз голубя. Конечно, отрубленная голубиная голова не может появляться в наших жизнях случайно. И у нее тоже был скрытый смысл, это ведь очевидно, – он говорил медленно, прерывался на кашель и зажжение новых сигарет; он говорил так, какой стала его размеренная и мутная жизнь, не спеша и бесцельно, – мне было необходимо найти скрытую суть. Уже слипались глаза, а я все держал голову на ладони. Уже не мог отличить, это правда отрубленная голова или какой-то нарост на коже. Не мог отличить, где я, а где мертвый голубь…
…думал о странной скале. Она черная, как из черного стекла. Внизу, очень далеко, я не видел, билось об это стекло пустое море. Море ничего не значило, я был на этой скале, и море было бесконечно далеко от меня. Оно не значило ничего. А здесь множество обнаженных женщин высиживали отрубленные голубиные головы. Я понял, что отрубленная голова – это не голова, потерявшая тело, а отдельный организм. Люди такие слепые, они думают, что знают смерть, думают, что отрубленная голова – это смерть тела. Но вчера ночью я узнал, что голова голубя – это лишь половиной голубь, а половиной что-то иное, неизвестное нашему рассудку.
Женщины высиживали эти голову. Я видел маленькие отсеченные головки и большие. Видел, как они двигаются. Мой человеческий рассудок кричал, что это гниение, что это черви шевелят головы, но мой иной рассудок знал – нет никаких червей на стеклянной скале и быть не может. Ведь я заглянул в душу предметов, и узнал, что тысячи иных миров находятся от нас в одном сантиметре, какие, черт возьми, черви!? Нет. Крупные головы хотели выползти из гнезда. Выпустив из рассеченной шеи потроха, они отталкивались ими от других, маленьких, головок, и выпадали на стеклянный утес. Червей не было.
Множество голов с застывшими глазами, не мигая, смотрели на меня. Не мигая, без страха увидеть скрытую душу вещи или слова. Они не боялись ничего, и поэтому не моргали.
А потом я летел на одной из таких голов. Она была огромна, я вцепился в перья и она, распустив из шеи красные нити, едва пахнущие кровью и чем-то еще, парила в воздухе. Я видел… видел огромное множество миров. Видел великое поле Эрейдуса, укрытое снегом; видел земли, в которых не было земли. У меня нет слова для того, что я видел, когда, стараясь не мигать, множество часов смотрел в отрубленную голову, спящую на моей ладони…
Вот, что сказал Джекоб. Мне было нечего ответить. Он продолжать что-то шептать. Сейчас он пытался нащупать свое прошлое и рассказать мне что-то о своем детстве, но сдался, ничего не вспомнив. Сильный кашель сотряс его плечи, и, вытерев ладонью кровь, он улыбнулся.
— Нет, из детства ничего не помню. Я слишком профессионально придумываю, чтобы помнить хоть что-то о себе. И слишком профессионально курю. А еще профессионально забываю все лишнее. Точно! Пока не забыл! Идем, хочу показать тебе вон то дерево, – он указал, и я проследил за его рукой. Дерево одиноко стояло вдали от жилой улицы и шумного подъемника, и чтобы добраться до него, придется идти сквозь сугробы. – Ты должен увидеть их.
— Их?
— Их, – кивнул он. – Зимних фей. Позавчера я видел их под этим деревом, ты ведь хочешь увидеть?
— Джекоб, сколько тебе лет?
— Около сорока, а что? Хочешь сказать, что мне поздно видеть зимних фей?
— Ну, нет. Наверное, нет.
— Если я не помню ничего из своей жизни, значит, у меня ее не было. Так что я младше тебя. Из четкого – только последний месяц. И это был достаточно хороший месяц. Хотя, может и остальные были не так плохи, я ведь не помню… или, – он загрустил на секунды, крутя на языке «нет, они были паршивы, и поэтому я не помню, я так хотел умереть каждый день, что просто забыл это время, они были паршивы, и я с ужасом встречал каждый новый рассвет», а потом сказал, – «не хочу помнить».
В животе Гумберта ворочается тревога и страх.
— Ты когда-нибудь хотел полететь на Сатурн? Или на его кольца? – спрашивает Джекоб.
— Нет, – отвечает сам себе Гумберт, – нет, отпусти меня.
Вопросы размыты и не имеют четких форм. Его душа похожа на ил туманного пляжа, где умерла много лет назад ***; его душа похожа на клубок легенд и червей, на саму Сиэллу, Деву Голода, что плывет в глубине. Человеческая душа на четыре простора вниз. Безраздельное царство Сиэллы. Ил задраил собой вопросы, смазал собой неточности, погреб под собой причины. Следствия – как обглоданные мачты. Чайки дрейфуют вдоль призрачной бухты.
Та трещотка, которую часто вспоминает Гумберт; рыба-трещотка, рыба-шар, в которую засыпали горох, кажется, была куплена его отцом у антиквара по имени *** и по фамилии Бомонд.
Разорванные мачты – это одежда маленькой Ло. Кустарник, похожий на скелет – лишь декорация для трагедии человеческого ила. Рождественская ночь – это омут, вывернутый наизнанку, небо опрокинуто вниз, летающие рыбы пикируют на людей, рассекая их жизни своими острыми крыльями. Сквозь лицо Христа плывет огромная рыба-зло, рыба-тревога осквернила его красивые ноги, рыба-серебро выпустила потомство вдоль его ребер, – в костеле святого Андрея, на кладбище, близ которого похоронена крохотная Долорес.
Каждое Рождество Джекоб думает, что пора писать письма. Или биографии. Появляется близнец крохотной Ло – крохотный Якоб, и мистер Блём желает написать о нем биографии, воспеть его самое, может быть, яростным потоком мыслей и смыслов, Джекоб ведь очень любил творчество Вирджинии Вулф. Но от нее всегда хотелось умереть, она выскабливала текст до блеска, лишала его самой себя, рождала сплошное зияние смерти, и если бы Джекоб решился выплеснуться Якобом, он бы непременно пошел вслед за ней, выскабливал бы смыслы до белизны… но в Джекобе было мало слов, казалось, он утратил способность ощущать мир, были лишь темные сгустки смыслов, какие-то нексусы, но идеи и четкость уплывали, в нем было слишком много миссис Вулф, чтобы позволить себе иной тип письма, злокачественная Вирджиния головного мозга, и поэтому он так и не решался написать о Якобе книгу. Шум и ярость (аллюзии не бывают случайными) воспоминаний нельзя сравнить с девятым валом и даже щелчком предохранителя, тихая и незамутненная жестокость памяти похожа на протоки или нелогичные пробоины сердца, память беспорядочна и спонтанна, в ее глубине прокладывают свои дороги чудовища-рыбы и скаты фантазий, радостные секунды разорваны, как бабочки, поперечно разделены видениями давно ушедшей боли, и боль снова шумит, как мотор, наполняет тело жизненной силой. Эта тревога, это чудовище разомкнуло тихую ночь, и вот, штиле нахт уже мертв, и таинственная Дева Голода всплывает из омута подсознания; беспорядочная и спутанная, как миссис *** в лохмотьях из мужских жил, ловко выхваченная из общего невнятного потока мыслей – женщина, потерявшая Якоба в сутолоке Барселоны, женщина-бывшая-жена, женщина-чудовище, которая потеряла родного сына, мерещится Джекобу в темноте, как чудовище, носящее ожерелье из человеческих костей, монисты мошонок (кто-то засыпал внутрь кожаных мешочков горошины), бахрому крайней плоти, длинная женщина с по-мужски волосатыми запястьями медленно просачивается в комнату вместе с лунным лучом; лунный луч проходит сквозь ее горло, где зияет красная дыра, и лунный свет, проходя туннелем этой раны, красными бликами падает на лицо Джекоба; маленький мальчик Якоб плывет в тишине, куда его скинули убийцы, эта бывшая жена плывет в паутине тревог, ее образ – образ Девы Голода – это крохотная точка на горле, крохотная отметина от удара Джекоба, опухшая щека от удара Джекоба, пробоина щеки от желчных слез, дегтем идет запястье, она в юбке из желтых роз, а когда приглядишься – это оторванные и собранные в единый узор, чудовищную компиляцию, крылья желтокрылых бабочек упавших за парапет детей, маленький Якоб был найден на четвертый день; выгнившие глаза Девы Голода смотрят на Джекоба томно-влюбленно, как смотрят женщины; мужские руки Девы Голода увиты пуповинами и прямыми кишками, грязное содержимое стекает по ее запястьям, гнойнички обступили крупные вены на шее, в ее прическе – длинном начесе седых волос – семейство мышей поедает свои испражнения и потомство, плавает золотая рыбка, рыба-кошмар ползет по ее лбу детенышем стрекозы.
Кошмарный Мара в облаке пинокодина. Современный Будда курит гашиш. Кошмары Джекоба Блёма меланхоличны и прохладны, как пальцы, брезгливо гладящие нелюбимое влагалище и проникающие в его слизистую суть, и как слизь прямой кишки и мокрота. Кошмарный Мара проступает в реальность в ту ночь, которую называют Рождеством, в лепестках печальных роз, в наркотическом трансе, с телом, как древо Ботхи, с глазами холодной мудрости и глазами утонувшей женщины. Гумберт слышит крохотную Ло. Та скребется в подполе рассудка. Ее движения становятся шумом и яростью. Дева Голода – это крохотная девочка с пробоиной в черепе. Она приходит из таинственного храма, сложенного извращенной рукой из медвежьих костей и облепленного гусеницами ярко-желтого цвета, из нутра малодушия и хрупкости человеческого рассудка; из сплетения жил, из метастатических болей, из ужаса упавшего с качелей ребенка, из судорожных кошмаров родителей, потерявших первенца, из работы того, кто режет крайнюю плоть, кто после массового обрезания заталкивает ее в свое брюхо; «…она всегда здесь, Гумберт, стоит лишь едва прикоснуться к двери, стоит только прижаться ухом к замочной скважине, как она овладеет тобой, Дева, чей язык может проникать сквозь коридоры и замочные скважины, чья слюна воспевает пучинный страх, дева-рыба, плывущая повсюду, в безраздельной темноте, в черной пустоши, в египетской темноте; впуская ее, Гумберт, ты позволяешь ее частям являться в мир реально и вещественно; придет год – чудовищный рок, человечество на краю циферблата – и она споет «Нью-Йорк – Нью-Йорк», эта Дева, что одета в одежды из мужских жил, в бусы метастазов, носит серьги ампутированных раковых клеток и гениталий, бесполый Мара ночных вокзалов, тень Каина и эрекция умирающего от простатита; Дева-столетие, свернута в клубок в самых недрах твоего и моего рассудка, и в каждом, оскверненном нашими помыслами; она безгранична и питается малодушием, ужасом перед переменами, она – это сила, заставляющая рушиться четкие структуры, семейная пара, склеенная страхом расстаться… она уже здесь, Гумберт, она всегда здесь. Для некоторых – с самого детства…», Гумберт прислушался. Часы медленно отбивали одиннадцать, жена накрывала на стол, все сползались в гостиную на праздничное мясо, шел густой снег, Гумберт прислушался, во всем этом существовала смерть, крохотная Ло шла к своему отцу, миссис *** приняла форму умершей девочки, чудовище воплоти двигалось внутри рассудка Гумберта.
Праздники всегда давили на мои нервы. Особенный их пафос наполнял меня грустью. Уже поддатая толпа стекалась в гостиную, где жена Гумберта накрывала на стол, белые скатерти исполнились тревогой и накрахмалились углами, их острая отчужденность напоминала, что Рождество – это грусть, это всегда шрамы, оставшиеся после гвоздей. Я старался оставаться в тени и не привлекать внимание, сел за крайним столом, где-то на улице завыл пес Гумберта, а затем замолк, видимо, увидев хозяина. Брахманенок рассказывал, что сумел склеить словацкую девственницу, мужчина, который приехал с бывшей женой и ребенком, униженно ковырял мясо с кровью, его глаза расширялись, когда говядина испрыскивала на тарелку красные капли, он пытался совместить ритм этих извержений с кровотечениями своего нутра. Гумберта не было, часы подтекали к половине, полночь обещали снежную, улицы опустели, Словакия была против шумных праздников, Дева Голода текла в небосводе, глотая яркие и блестящие звезды, мистер Бомонд в иной широте и долготе поднял лицо к небу, чтобы небо увидело его стеклянные глаза; в 23:44 Джекоб проснулся с влажными от слез щеками, в 23:51 Гумберт дочитал последнее письмо своего психиатра и набрал полные карманы хлеба, чтобы встретить Рождество с голубями, шумные крылья всегда заставляли Ло замолчать. Видение Якоба исчезло, вновь породив слезы. Бывшая жена Джекоба, все еще сохранившая фамилию Блём, «синий чулок» встречала Рождество в Милане шампанским и снотворными, две таблетки за раз, ее любовник медленно исчезал из ее жизни и уже почти закончил забирать вещи; от него осталась только библиография Умберто Эко, только несколько фотографий, только зубная щетка, только несколько рыжих волосков в раковине и на расческе. И память, что он – яростный либертен. А еще знание, что Рождество он встречает со своей новой любовницей, кратковременной вспышкой, гаснущей где-то между тремя и четырьмя по циферблату Вселенной.
Несколько трагических мелочей, цветом и фактурой похожих на случайности, столкнулись в одно и образовали целое. Жена господина Гумберта в своей нелепой печали (фотография Ло, еще одна фотография Ло, где Ло и ее папаша, а еще эта Ло рядом с велосипедом, ох уж это мерзкое имя – Долорес, ведь теперь госпожа Гумберт, уже после смерти Ло, купившая на книжной распродаже мсье Набокова, знает о Ло все, ох уж эта Долорес) часто кормит голубей, их серая стая кружится над городом и стекается к этому дому. Небо в серых облаках. Жена господина Гумберта умолила своего мужа надеть к Рождеству красивую рубашку; ту, из дальней части его шкафа, фиолетовые и золотые полосы, а на манжетах странной формы зажимы с острыми краями; острые края трутся о запястья, и поэтому Гумберт не носит эту рубаху, но сегодня он был разжеван криками Ло в сознании, и это странное ощущенье запястий было ему к лицу, к лицу была печаль фиолетово-золотых полос, и он надел к праздничному ужину эту рубашку. Именно в ней он покинул дом, чтобы кормить голубей своей жены. Острые части кололи запястья, серые тучи, а бывшая жена мистера Блёма впервые за жизнь читала Умберто Эко, почему-то именно «Картонки Минервы», так получилось, за много миль отсюда праздничными огнями горела синагога на Китай-городе, а еще крохотный мальчик покончил с собой, потому что ему не понравилась новая стрижка. Все происходило в рождественской периферии, в шарме и тумане, кому-то стрелки циферблата перерубили шею, а бывший муж той, которая к Рождеству была на сто тридцать второй странице «Минервы», вышел в снег, потому что его голову вновь наполнили голоса. Злокачественная Вирджиния, неизлечимо, его руки дрожали и пытались ухватить снегопад, снегопад был похож на жизнь, и в его голове кто-то шептал тридцать первых страниц Пруста, за которые Марселя подвергали критике издатели – и именно об этом курьезе (Прусту отказывают в публикации) читает бывшая жена Блёма в «Картонках Минервы» за километры от этой рождественской трагедии; а еще разница времени, часовые пояса перетянули запястья, и Гумберт чувствует, как они медленно начинают болеть, эти приснопамятные запястья, а еще он ощущает холод и смотрит в небо, похожий на раздувшуюся плоть небосвод давит на его больную голову.
Наверное, госпожа Вулф высоко ценила творческое наследие Пруста. Этот факт (?) становится решающим и провоцирует два мистических откровения (два в этой конкретной точке, в этом поясе, в эту секунду) в то мгновение, когда наступает полночь, когда я начинаю поедать рождественское мясо, когда брахманенок глотает шампанское, и сверкающие капли блестят на его шоколад-с-молоком подбородке. Джекоб находится у реки, стянувшей горло ближайшим холмам, под одним из этих холмов, чья поверхность вся в могильных овцах, живет Дева Голода, и Джекоб видит, как под суровым льдом мелькают тени. Кто-то живет подо льдом, или кто-то провалился под лед, кто-то мелькает в темноте черной воды; госпожа Вулф высоко ценила Пруста; госпожа Вулф с головой ушла в черную воду, и поэтому Джекоб начинает крошить лед, искать его слабые точки, смотрит на сеть трещин, что-то тянется к нему изнутри мутного омута. Гумберт видит ангела. Голуби тащат его в своих клювах, растягивают его подвенечное или похоронное платье, ангел в голубином дерьме с ногами, до костей расклеванными голубями, его лицо обезображено подъемником, череп пробили, и теперь снег засыпал дыру. Ангел дергает бледными пальцами, а люди считают, что это лунный свет, блестящие и слизистые пальцы дергаются, как у эпилептика, ангел смотрит на Гумберта сине-прозрачными глазами, ангела призвала госпожа Гумберт, из года в год кормящая голубей; маленькая Ло умерла по воле этой твари с лоснящейся кожей, по воле этого похоронного покрывала, по воле длинного расклеванного пальца, по воле его кутикул, по воле его нарывов, а значит, госпожа Гумберт позвала сюда смерть; она откормила жнеца крохотной Ло; ангел бледно-голубых гниений держит в руке ножницы, конвульсии в пальцах вынуждают ножницы раскрываться с противным скрежетом, а затем смыкать концы, нити крохотных Ло рвутся, во всем виноваты голуби. Любимой книгой Джекоба являются «Волны», когда лед немного трескается, Джекоб видит волны на черной воде. Я откладываю вилку и нож, они скрипнули по тарелке, как скрипят ржавые ножницы. Любовник бывшей жены Джекоба сегодня дочитал «Между актами» и готов вступить в Рождество освобожденным от этой книги, но его жизнь так же протекает между актами, никогда не понять, что произойдет завтра. Джекоб опускает руку в воду, лед царапает вены, вены Гумберта напряжены и болят от этой омерзительной рубахи с фиолетово-золотыми полосами, замерзшая рука становится фиолетовой, но тонущий уже утонул, шум и ярость наполняют голову Джекоба и он видит, как крохотный Якоб только что утонул по его вине, видит ангела с ножницами, что обрезал жизнь Якоба, изрыгает проклятья в адрес бывшей жены, и она, отложив «Картонки Минервы» выпивает снотворное, запивает вином, ее глаза, глаза ангела, глаза Джекоба, глаза Гумберта слизисто-серы и немного плачут.
Если спрятать Спасителя в темную воду, чернота сделает пять его ран невидимыми.
Все происходит спонтанно, но спланировано: я выскальзываю из душных объятий немного пьяных бесед, из ауры брахмана, из тихого облака печали госпожи Гумберт, чтобы встретиться с Джекобом, как мы и договаривались. Дом пустынен и похож на мертвое тело, чья остывающая жизнь продолжает взрываться в гостиной, везде, кроме сердца, погашен свет; я не могу вспомнить лик и имя своей возлюбленной, теряю ее во мгле коридора, каждую свою рану о ней, все становится шатко и взросло, где ничего не разобрать, узость детского коридора завершена, когда я надеваю шапку и открываю дверь, вижу снег. Джекоб бредет сквозь снег, в нем шумит ужас и Дева Голода, желание найти Якоба, оседлать голубиную голову и лететь far-far away, он потерялся в облаке собственного парфюма и втородневного пота; запустив руки в собственные бакенбарды, Джекоб потерял свои пальцы. Гумберт отрывает себе кутикулы, раздирает раны острыми краями зажимов, смотрит на сочную кровь и брызгает ей на голубей, ведь он помнит, как старшая сестра Ло сказала «голуби из породы куриных, если почувствуют кровь, набросятся друг на друга», наверное, легче убить одного, чем привлечь к стае хищника. Боль на кончиках пальцев. Он хочет, чтобы все голуби умерли, чтобы некому было нести ангела-с-ножницами сквозь темноту, он брызгает кровью на мерзких птиц, он орет «отпусти меня! Отпусти же меня!», обращаясь к отцу, и смотрит на меня, когда я выхожу на улицу, и видит своего отца, и падает на колени, а вокруг него голуби рвутся и терзают друг друга, и чем больше становится крови, тем больше и больше они рвут друг друга, Гумберт ползет вперед, под его коленями какие-то ошметки, к штанам пристает длинная, похожая на червя, кишка одного из голубей, его штаны в отметинах крови, «отпусти меня», сжимая мои оцепеневшие колени он просит «отпусти меня!» и бьется лбом туда, где мой пах, и раскрывает рот, и его нос, его рот, его нутро наполняется моим запахом, но он этого не понимает, а вокруг всюду и везде голуби, Ватерлоо утонуло в крови… в голове Гумберта картина, где всех христианских мужчин враз обрезали, и на площадях выросли горы на километры вверх крайней плоти, и он этому улыбается, вдыхая запах мужского паха, а я не могу пошевелиться от страха и какого-то неведомого чувства, и даже чувствую возбуждение, и от этого еще и еще сильнее голуби бьют крыльями, а Гумберт вытирает пальцы об меня, Гумберт думает, что ангел-с-ножницами был бы доволен этими горными хребтами крайней плоти, а уже через секунду он видит, что всюду и везде – крайняя плоть; голуби – это ожившая крайняя плоть, когда в синагоге чиркают ножницами, крайняя плоть оживает и разлетается по всему миру, вот почему ангел – с ножницами, Божество Обрезания, а потом Гумберт смотрит вверх, образ его отца рассыпается, с него осыпается кожа, а может, и не просто кожа, а тоже крайняя плоть, и он видит Ло, а следом за Ло того мальчика, которого он когда-то видел, того мальчика с желтыми розами; того мальчика, который принес желтые розы на снежную могилу Долорес, и всем этим людям Гумберт целует пах, никогда ему не удавалось поцеловать три паха за одну ночь, Божество Обрезания будет довольно, если Гумберт… попытается поднести три порции крайней плоти в жертву, он шире открывает рот, чтобы добраться зубами туда, где растет крайняя плоть, но натыкается больным зубом на твердую стальную молнию штанов, воет, смотрит вверх и видит, как вокруг уже не известного лица – три в одном, святая Обрезанная Троица – сияет в крови и нимбе из крайней плоти, крайняя плоть, как вьюн, вьется и вьется, вращается диск нимба, сверкает острыми краями, как ножницы, колени святого дрожат, и Гумберт отпускает их в ужасе перед карой.
О, божественное обрезание! Когда святой покидает Гумберта, живых голубей уже нет, или они улетели, но есть несколько отклеванных от шей голов. Господин Гумберт расстегивает ширинку. Всегда должен быть первый камень, чтобы выросла гора. Пальцы не слушаются, они дрожат, они кровоточат, они очищены от кутикул, они пытаются сладить с ширинкой, и вот они чувствуют нежную и хрупкую крайнюю плоть, сдавливая ее – сосудики, пропускающие сквозь мембрану кровь. У Гумберта нет ножниц, но он думает, что клюв на оторванной голове – очень похож на ножницы. В одной руке сжимая член, а в другой голубиную голову, он смотрит вверх: темнота, тьма, глубина, ангел ждет жертвы; и Гумберт просит «отпусти меня…» и понимает, что нужно делать.
6. Бесформенная Юдоль
Последняя служба святого отца Уильяма (я-есть-Воля) пришлась на пору Дня Мертвых, была зима, рот отца Уильяма заиндевел, перед его глазами собрались дети, чьих родителей забрал ветер. Детей было мало, не было нужды отпирать старые замки церкви, все собрались на улице, площадь вымостили стульями. В Городе были любовники, беспризорники, были зимы, все было, как в других городах, но более открыто, и поэтому проповеди отца Уильяма подходили к концу. Он запер церковь, ему больше не хотелось вытирать древний воск, полировать серебро, не хотелось мастурбаций, не хотелось целибата и что-то рассказывать людям. Мудрая старость отца Уильяма глазами уперлась в глаза смерти; с тех пор, как красавица Ингеборг покончила собой, не было в Городе никакого движения. Больше никаких блесток, бисера и проповедей. «Во всем виноваты ведьмы… Во всем всегда были виноваты ведьмы», во всех городах всегда находится кто-то виновный, Уильям не хотел его искать, он сказал детским макушкам, смерзшимся волосам об этом, но они услышали только «…во всем виноваты ведьмы», почему бы, собственно, и нет, кто-то должен быть, а кто-то не быть. Уильям ощущал День Гнева, но не мог резюмировать свою жизнь. Все свои осколки он рассказал, ему было холодно, но он не знал, какой в этом смысл. Проповедь не повисла в воздухе, она обвалилась, Уильяма это расстроило, ему показалось, что он долго что-то строил, а потом внезапно отмахнулся от этого и построенное осталось бездушным и обломанным, через годы это что-то разграбят, Уильяма забудут, он забыл написать свое имя на хрупком фундаменте Этого, Город смотрел на него и не видел, Уильям тоже не видел, паства разошлась, появилась мысль, что и правильно, хорошо, что не открывал церковь. Замки смерзлись, можно было обжечь пальцы. Не хотелось обжигать пальцы просто так. Кто-то здесь и среди был любовниками, отступниками, кто-то сопротивлялся, а кто-то мерз, все прошли «мимо», никто не достиг, так не только в этом Городе, так везде, все Города остаются недостроенным, потом тонут, от количества кирпичей зависит только время, всегда полураспад. Уильям не знал откуда взялось слово «полураспад», он устал рассуждать о мужчинах, войнах и женщинах, эти рассуждения сразу тонули, всегда и все оказывалось мертворожденным в человеческой глотке, а глотка Уильяма была такой же человеческой, как глотки не знавших о Деве Марии, все тонуло, и Дева Мария тоже. Были ненужные слова «брат, отец, мать», они шли единым потоком, были «овца», «снег», «целибат», видимо они шли раздельно, были «любовь, Бог, секс», но в них все было очень трудно. Но все было примитивным, отец Уильям не имел ничего из названного, а если когда-то и имел, все утонуло. Незачем было говорить эти слова, – Ингеборг умерла.
Девочки-мальчики назначали даты и явки, в юности Уильям смотрелся в воду, и в воде казалось, что он – внутренний Уильям и тело трудно сочетать, что внутренность никак не соответствует внешности, были побеги, явки, даты и юность, когда Уильям верил, что люди бывают слабы, как лед, что они чего-то не делают (как того хочет Уильям) из страха, малодушия, ужаса, неправильных дат и явок, видел в воде нетривиального себя, что дамы не приходят, потому что назначены неправильные сроки, что все придет, все сойдется. Уильям не понимает, зачем он это делал, а если бы не делал, что было бы, и было бы что-то, без этих моментов, когда они не приходили, когда он засыпал и оправдывал их, когда они не приходили, когда он отсчитывал новые дни, когда часы перескакивали с «вчера» на «сегодня», а Уильям все ждал – было ли в его жизни что-то, кроме этого. Был ли целибат, была ли церковь, он не знал, ему казалось, что ничего не смерзлость, просто так получилось, он не знал, было ли хоть что-то, и ПОЯВИЛОСЬ бы, разорви он. Всегда засыпал по воле (Уил-ай-эм!) и даты-явки от сердца, существовало ли что-то с Больших букв, всегда были не те дамы, не те целибаты, церкви с неправильными свечами, были ли хоть что-то, Уильям не знал, не узнал, не узнает, только называл что-то с Большой буквы, и жил этим, вся его жизнь высветилась неправильным алфавитом под неправильной судьбой, каждая буква выпячивалась по очереди, и нить вела от одной к следующей, Любовь, Юность, Болезни, Целибат, так и вырос целый алфавит, было ли хоть что-то, кроме попытки домучить азбуку, часы перескакивали на «завтра», на новые буквы, буквы были нестерпимыми, и это было неправдой, потому что Уильям не умер от Любви, Юности, Болезни и Целибата, все обмануло Уильяма так же, как всех в этой жизни, Смерть в этом алфавите тоже была обманом, Уильям засыпал, и винил себя, потом не винил себя, потом не вмешивался, потом яростно сражался, разные буквы и силы сошлись в этой монолитной судьбе разными цветами и настроениями, все люди оказались дальтониками и не различили ни единого настоящего цвета, все эмоции отхлынули, остался только альфабет, такие же буквы Уильяма, как и у всех других, в своей субъективной последовательности со своими уильямскими цветами, священники, дети, женщины, полностью такой же набор со своей субъективной возможностью дать ему четкие или размытые слова, все было таким же и неправильным, была смиренность, ярость, ничто не сломало мерзлость, мразность и скованность, все вытошнилось, и Уильям стал настоящим бесстрастным священником, Бога вымыло долгим ожиданием, секс вымыло старым недержанием мочи, древней импотенцией, духовные желания обесцветило дальтонизмом, Смерть умерла от старости последней буквой алфавита.
Уильям знал только одно: Город идет, все закончится для каждого длинным подчеркиванием, кто-то назовет его точкой или злоточием, все закончится для каждого разной буквой, в середине растянутой на языке красной Любовью, целибатом и сумерками, все закончится едино и четко, вовремя, сквозь сердце, фаллос, фелляцию и другие термины жизни, все закончится естественно и угасанием ли, фрикциями ли, долгим и яростным вздохом… – было открытым вопросом, Уильям не стремился отвечать на него или не отвечать, все завершалось от обмана, пробуждением; от любви, заблуждения, любвипробуждениемлюбвисновалюбвилюбвиещеоднойлюбвиещеещещещещещещнезавершайсяНЕзавершайсяПОЖАЛУЙСТАтыСАМАЯособеннаяЛЮБОВЬнезавершайся в одной из тех букв, до которой мы успеем досчитать или не успеем, или не будем знать букв, жизни и слов, все закончится одинаково – знаем ли названием буквы этого Сейчас или не знаем или не хотим знать, все закончится в постели любовников, постели одиночества, целибата и импотенции, с мужчиной или женщиной, в одиночестве без мужчины или женщины, закончится у мужчины и женщины, закончится у живущих без какого-то Мужчины или Женщины, с детьми или в бесплодии, в ранней утренний час и душно-интимный сумрак, оборвется овуляцией, эякуляций, бурной поллюцией рыцаря или шумно-восторженной (может быть) первой – утренней эрекцией, в гулком ночном часу, когда будет нужно, когда циферблат перевернет «сейчас» и начнется «нет», когда-нибудь, безутешно, со слезами или сухими розовато-увядшими щеками, для стареющих трансвеститов, танцоров и гулких глаз прохожих, очень одиноких мужчин и их собак, в той исконно страшной точке по ту сторон Унтер ден Линден, Смерти и «я люблю тебя», где все исконно обрывалось вопреки Я ЕСТЬ ВОЛЯ и крикам «мир, прокрутись для меня, сумятице, невыразимому и легко выражаемому, всему малодушию и даже смелости, закончится последним шагом, каким-то естественным выдохом, каким-то выдохом, каким-то выдохом, почему-то, во Вселенной, где никто не умел дышать… под мужчиной, на женщине, на столе, прозекторском столе, зубоврачебном столе, под мышьяком, для мужчины на женщине, для мужчины под мужчиной, для всех них, кто умел верить, кто умел мечтать, кто умел писать стихи, кто умел плакать, кто умел раздвигать под кем-то бедра, – Уильям знал, – под каждым, кто жил или существовал под бренди, для каждого, в каждом, выдохе, вдохе и стоне, даже для этих детей, запорошенными снегом под седину, для красивых уродцев ночных дворов, Дворов Вечности, для воздуха, там… там, ТАМ, Здесь, когда каждый сам для себя поймет – то или иное слово, то или другое движение, в тихом будуаре, в последних каплях бренди, спермы, воды и воздуха, все закончится, в сизых стенах яркого дыма, рассвета и юношеской влюбленности, в комнате Смерти, в комнате Выдоха, королевского-страшного крика, для рыцаря, который не дождался своей любви, для другого рыцаря, с Башней прекрасной дамы, для третьего рыцаря – с Башней промеж потных бедер, для того избранного болью рыцаря, с Башней промеж потных бедер, что пыхтит черепицей и ярко плачет дождем – на бедра другого рыцаря; для всех них, для Уильяма, для самого воздуха, кончившегося в бордовом будуаре под давлением сигаретного дыма. В прекрасной тюрьме под названием «Ингеборг».
Вот отец Уильям с сединой и в черной куртке, поворачивает шею, и видит, как дети его прихода тащат за волосы женщину, бьют ее ногами, «во всем виноваты ведьмы…», и женщину зовут Марта, как ее мать звали Мартой, и для Уильяма в этом все безразлично, все христиански и холодно, все Бесформенная Юдоль, и он пронзительно знает свою букву, свой момент, что Марту утопят, как ведьму, и что для этих детей, вселенная выкрутится буквой В, этой ведьмой, для других – буквой У распухшего утопленника Марты, Х холода, М мужчин и мужеложцев, Л любви двух мужеложцев, все и для всех выкрутится и лопнет, в этом был Бог, было мало христианства, в этом было тесно Уильяму и воздуху, это было – бордовым будуаром – Уильям не находил себе места в этом страшном просторе пониманий.
7. Самадха
Я выбежал в снег. Он был повсюду, будто специально. Или я ослеп. Или его стало слишком много, будто специально. Позади меня натянулась цепь, огромный пес натянул ее всеми силами своей шеи, я знал, как больно впились в нее звенья, и попытался ухватить меня, но ухватил воздух. Воздуха тоже было слишком много.
Там! Там, внизу!
И еще ниже, чем там, внизу.
В какой-то момент мне показалось, что пес нагнал меня. Что сила шеи одолела силу железа. Цепь порвалась, и пес побежал вперед. Он нагнал меня там, где гора ломается в хребте, и ты почти падаешь, когда не видишь дороги, на покатую крышу кафе. Где скрежещет подъемник и таскает к другой горе пустые сиденья. Холодно. Железо посинело от холода, я слышу, как лениво оно тащится на вершину горы; идет снег, я слышу, как он идет… «…а еще, Гумберт, а еще Гумберт, а еще, там, внизу, действительно живет Дева Голода…»… идет куда-то неизвестно куда и зачем. Слишком одиноко. И именно здесь, где снег так одинок, мне показалось, что большой пес нагнал меня, опередил и врезался своей тушей прямо в грудь. Показалось, но только показалось, что заболело солнечное сплетение в этой темноте, но на самом деле не болело ничего. Все – только казалось, вокруг даже ничего не было, и внутри ничего не было тоже. Мне показалось, что заболело в костях, но только показалось, и тогда я подумал, что умер, раз боли больше нет, а мне так хочется, чтобы она была; на пару мгновений показалось, что я уже умер, а затем стало ясно, что нет. Или да. Я не понял. Всюду валил снег, ничего нельзя было увидеть, и поэтому я не видел жив я или уже нет, собирался ли большой пес вернуть меня своему хозяину или просто лениво натянул цепь, я не мог этого видеть, и что самое жуткое я не мог видеть, действительно ли болит солнечное сплетение или только кажется.
Все же, наверное, мне казалось, что болит.
Ничего не болело.
Все было хорошо.
Вокруг и всюду, даже там, ВНИЗУ, шел крупный снег. А глинтвейн похож на кровь, или кровь похожа на глинтвейн. Я не знаю, что на что похоже. Но мне казалось, что у меня внутри что-то болит. И я не мог уловить это, потому что стало ясно… никогда в жизни я не знал, что такое боль. Только что-то, что очень хотелось назвать болью. Этот детский перелом ноги; мне так хотелось сказать, что он – это боль, и сразу же стать большим, испытав боль, но никогда, никогда
никогда
никто не знал
боли такой настоящей о которой не находится даже четверти слова
шел большой снег
большой снегопад к рождеству и никто не знал что такое боль и существует ли она за пределами воображения и зачем выдумали это слово зачем употребляют его так часто я кажется закричал что такое боль и… ничего не ответило мне потому что ничто даже АБСОЛЮТНОЕ ничто не знало что же такое
боль.
Мой большой и нелепый Джекоб сгреб меня в охапку на краю обрыва. От него несло сигаретами и словом «гомосексуальность»; оно, как и другие слова, ничего не значило. Его ворсистую шубу я принял за пса. Кто-то из нас в кого-то врезался. Он подумал, что я хочу спрыгнуть вниз и крепко зачем-то прижал к себе. Я ничего не говорил, а он повторял, как заведенный «снова и снова, снова будет за одним кровавым рассветом следовать другой не менее кровавый рассвет, все эти рассветы своей кровью будут пачкать крыши, не плачь, не плачь, однажды, триста кровавых рассветов спустя ты ничего не вспомнишь, я клянусь тебе, ты даже не вспомнишь, все обратится темнотой, снова и снова после этого, снова и снова, за одним кровавыми рассветом будет следовать другой, не плачь, тысячу рассветов спустя зарубцуется, останется только темнота, я обещаю тебе, не плачь, не плачь, две тысячи, две с половиной тысячи… три тысячи и кто-то будет любить тебя так, что ты ничего не сумеешь вспомнить», а потом он начал кашлять. Он же сказал, что простыл. Кашлял и кашлял куда-то мне в шею. И я ощутил на шее кровь. А значит, он не простыл, а значит, он соврал. Я вспомнил отрубленную голову голубя на его большой ладони. Большой мужчина в шубе кашлял кровью, а значит, у него туберкулез. Но нет, я знал, что у него нет туберкулеза. Он не из тех, кто, болея туберкулезом, прижимал бы меня столь плотно и гладил по голове. Это что-то другое.
Рак легких.
Снова и снова, один рассвет за другим у него рак легких.
Один кровавый рассвет гонится за другим и не может поймать.
Чтобы любить так сильно, чтобы все забылось.
Только темнота и только не плачь, только не плачь, только не плачь, всего лишь две с половиной тысячи рассветов пройдет над этой горой, где один кашляет болью на шею другого, который не знает, что такое боль, и все забудется для этой старой земли.
Чей-то снежный голос, рак снега, метастазы сугробов – все зарубцуется множество тысяч кровавых рассветов спустя…
…уже через несколько часов все крыши были перемазаны красным и начали ярко гореть на восставшем солнце.
— Якоб-Якоб, все будет хорошо. Все уже позади, Якоб…
8. Утоливший голод
Я замираю, и он проходит мимо, рукой ловя руку будущего, копошась внутри его комнат и выхватывая оттуда, и я выхватываю образ Джекоба, будто в последнюю минуту, будто в мою сетчатку он должен быть врезан именно таким: с сияющим полумесяцем, входящим сквозь его правое ухо, выходящим чуть ниже левой скулы, состригая его выдохи и рыжеватую бороду; когда он так яростно улыбается несвежими зубами тому, что видит впереди, глаза быстро наполняются блеском, когда в них отражен свет луны, и в зубах отражен свет луны, когда свет луны становится синонимом Джекоба, и кровь луны светом по свитеру, по его горлу, когда все секундно и неуловимо – мой глаз делает его вечным. Он попадает в мою кровь, «Всё!» и «Бог больше не говорит со мной», – комом внутри моего горла, которое не рассечено светом луны, пульсирует, что самая красивая история, ничего не сбудется, умрет от серпа – вошедшего в ухо и вышедшего, пробив адамово яблоко, под скулой – потому что так яростно полнятся смыслом лишь глаза умирающего; я не предвижу роман или хотя бы строчку, в которой Джекоб видит свое спасение, я предвижу лишь одно и знаю, что это сбудется, будто его огромное тело упало на землю, огромные руки обращены к луне, а лицо спрятано где-то в коленях, что на этих руках такие следы, какие никто и никогда не мог увидеть, единственные раны из всех, что ХОТЯТ быть, самовластные и святые порезы, когда тело и дух слиты в одном желании умереть, Святые харкают густо, Святые выплевывают жизнь, Душа скапливается в шестиградусном сгибе локтя, и по обе стороны руки – вниз; впитываясь в суконные штаны, Святые лежат в паху, а затем текут дальше, впитываясь в шнурки и капая ниже… с огромной усталостью Джекоб ворчит «это все…» на пороге какого-то дома, с яростными порезами от второй фаланги безымянного пальца до интимной ямочки в локтевом суставе, ямочке поцелуя и смерти, откуда бурно выхаркивается жизнь; он сидит в позе Узнавшего, рыдая в изможденье своих колен… и нет ничего другого, кроме этого дома, кроме «Отец не говорит со мной…», вновь кроме этого дома, контур которого уже отражен в сетчатке Джекоба, и который я могу наблюдать внутри его глаз, как в зеркале, дома, который он может назвать своим Домом, у порога которого он умрет – несколькими человеческими циклами позже, не найдя этот Дом… только стропила, только крыльцо, только перекрытие, – все лишено внутренней жизни и имени.
9. Горькоцветы
Вокруг огромное количество смелых; слишком много, чтобы им удивляться. Мальчишки на котурнах (?), девчонки с глазами морских ежей. Мужчины, марширующие в бордели. Бережно хранящие в себе воспоминания о домах терпимости, отмывающие плоть до красноты в бело-серых кулуарах супружеской ванны, примыкающей к спальне, возвращающиеся в спальни с гаснущими взглядами, поруганное детство, стягивают через головы бесформенность одежд с оттиском моды, столетий и женского вкуса, вползают под одеяло. Их греет мысль о доме иллюзий, их греет мысль о казнях, о взятии Бастилии. Они присвоили себе подвиги далеких предков. «Сюзанна», прижимающая его к большой груди. Жена. Детство. Он держит своего маленького друга (и сам он маленький в этом воспоминании) за руку, и вместе они осторожно двигаются в сторону парка. Как много раз они гуляли в сторону этой сумрачной зоны, но никогда еще эта прогулка не вызывала страха. Сегодня же путешествие – уже не будничный променад, сегодня случается что-то особенное; так ощущаешь, когда обычные дни, такой же ход часов, как обычно, по воле праздничной даты изменяет свою структуру. Этот парк: кованая лавка, самая обычная лавка, ты не знаешь, сколько бактерий оставляют на ее поверхности бродяги, совокуплялись ли на ней и какие признания она слышала; не знаешь, как выглядит она под полной луной, случалось ли что-то с этой лавкой ТАКОГО, что навсегда ей запомнилось, что вообще она помнит, что помнят ее лапки, с кем она ассоциирует себя, к кому протягивается, к кому тянется своим сидением, что вспоминает; большие деревья, иногда сквозь кору может быть заметно человеческое лицо, женское лицо, многие деревья знают несметное количество тайн, деревья имеют тайные имена, такие как Асмодей, Люцифуг и другие, которые так любят повторять мальчишки, призывать к себе на помощь (и ощущать какое-то взросление сквозь это) нечестивые легионы, без рода, без племени, нескончаемо бредущие по улицам мальчишки; аккуратная сетка дорожек с белым камнем, все это похоже на вены, по которым путешествуют, толкаемые усилием невидимого сердца, влюбленные, скучно сжимающие ладони друг друга, испытывающие непонимание, как относиться к вспотевшей ладошке в своей ладони, к этому острому запаху ЧУЖОГО человека в непосредственной близости, еще ничего не знающие; парк – это совокупность всех лавок, дорожек и старых деревьев. Парками становятся серийные убийцы. Парками в иных жизнях становятся серийные убийцы. Прикасаясь к этой мысли, ты медленно узнаешь суть вещей. Не хватает слов, слова будто угловаты, когда ты думаешь об этом. У тебя есть множество лиц. Лицо твоей терпимости меняется на лицо суверенности и злобы, лицо твоей жалости становится обезображено отвращением, когда ты моешь руки. Внутренняя сторона человека скрыта от него, как скрыта от кожи – кровь, текущая под кожей. Может быть, в театре происходит соприкосновение. Полное отражение. Тот, кто в будущем будет изменять своей жене с «Сюзанной», приносить запахи и осколки «Сюзанны» в кулуары семейной берлоги, идет в этом воспоминании за руку с мальчиком по парку. Множество раз до этого они бывали в такой же час, когда солнце в такой же позиции, в этом парке, прямо на этой дороге, и сворачивали на ЭТУ тропинку, но сегодня, когда они свернули на нее, они ощутили, как Приближаются. Наконец, замкнутая система парка обрела конечную цель, с каждым шагом они Приближались. В них было ощущение, что после такого, они навсегда останутся друзьями, найдут таинство дружбы, но, как обычно бывает, с каждым шагом Приближения, их все больше переполняло взаимное отвращение. Так всегда случается, когда озвучиваешь особенно звонкую правду. Что-нибудь из семейных тайн, преданий, которое ты озвучиваешь перед приятелем, и как бы он ни отреагировал, и как бы ты ни ненавидел свою семью, в крови появляется отвращение. Но они Приближаются и пока не знают всего этого. Ощущение ново и немного горчит, воздух кажется зеленоватым, слух о том, что в парке кого-то убили, быстро превратился в сказку. Они Приближались к трупу, они хотели его увидеть. С каждым шагом, они хотели все меньше. Они Продолжали, потому что стыдились слабости друг перед другом; он будет испытывать какую-то гордость, изменяя жене, и все потому, что он Приблизился к последней тайне, он увидел труп, в раннем рассветном, розовом свете, под розовой лампой борделя, когда далекие трамваи похожи на бульдогов, светские модники как бульдоги на карачках перед какой-нибудь шлюшкой, в розовом воздухе, кажется, розоватый запах, наверное, первый запах настоящей крови; детские порезы, ушибы и ссадины, оказалось, не источали настоящей крови. Они Увидели, приблизившись вплотную. Кричать было стыдно. Что-то изменилось.
Протягиваясь от одного воспоминания к другому. Иногда врывается что-то, не принадлежащее тебе. Каждая секунда соотнесена с прочими секундами, рассветы стоило бы описывать в соотношении с другими рассветами; книгам стоило бы стремиться к полному описанию рассвета этого дня (коль уж каждая эпоха – это не та эпоха, чтобы быть счастливым), коль уж все так, стоило бы тратить себя на фотографическое описание рассвета, в конверте его сквозь столетия, во имя облегчения соотнесенности. Механическая сила смерти устремлена к центру. Маховое движение. Путешествие вдоль сочинских кромлехов (водопады, обязательное фото на их фоне, этого водопада и того, самого крупного, мне запомнилось путешествие сквозь навесной мост и свой стыд, что в таком мужском путешествии меня почему-то сопровождает мать), от одного кромлеха к другому, обязательное фото на их фоне, этого кромлеха и того, самого крупного.
Понравилось, ты смотрела?
Как ты?
Где ты? ЗАЧЕМ?! Ты там, здесь, смотрела и видела, ЗАЧЕМ ты была там, здесь, ЗАЧЕМ ты есть? Зачем ты… еще не зная о тебе, я смотрю в водопад, уже тогда во мне какие-то центробежные стремления к красоте и цветок в петлице, мимо церкви мы сворачиваем на машине, и я вижу, как взлетает гравий, а еще каждый раз в машине мне страшно, что зачешется глаз, я протянусь его почесать, будет кочка, и пальцы мои войдут мне в глаз. Все – центробежно. Движение неумолимо. Даже воспоминания подвергаются шлифовке. Уже нет запаха. Кромлехи уже самоцельны. Уже нет направлений. На север ли или в субботу? Картины спящего дома или краб, ползущий по моим волосам, и я чувствую кожей своего черепа его лапы, женские ли или мужские, было ли немного больно от щелкающих прикосновений (?), краб перебирал мои волосы, только это осталось, на ночном пляже, в моих снах я на лодке с каким-то мужчиной, останавливаемся посреди озера, он спрашивает, не хочу ли я искупаться, я отвечаю, что стесняюсь раздетости и смущаюсь своего тела, но это немного ломано, я играю, он должен убедить меня, что я красив, я сам это изнутри чувствую, и когда он говорит, что искупается сам, я говорю, что боюсь за него… не боюсь, но говорю это, будто поддерживаю на плаву наши возможности. Понимаешь? Жизнь направлена в прошлое. Устремлена к пониманию той минуты, когда краб… мой отец, мой отчим (время стерло и эти различия, хотя однажды, в день их свадьбы, конечно, они были мне очевидны, но сейчас я устало не различаю этих понятий, во мне гремит от пустоты) пытался увлечь меня подводной охотой. Острога была красива. Солнце блестит на ее острие. И почему-то больше ничего. Но все же кромлехи, от них можно протянуть каждую мысль к Ирландии, спросить чаек, поют ли они старые песни, спросить их о Джойсе, чей портрет стоит над моей постелью, как старый родственник, стоит там, чтобы кто-то вошел в спальню и обнажил там его. Чайки. Вернемся к чайкам. Чайки очерчивают, как циркуль, своими серо-стальными телами. Окружность, за которую нет выхода. Их размашистые движения похожи на огромные мужские полости, крупные клетки ребер, распоротые и поднятые, они похожи на стонущих морских котиков, влажные изнутри ребра.
Кромлехи Ирландии, или Шотландии, шерстяные юбки, под которые можно проползти. Женщины Ирландии, у каждой в глазах мысли, что именно ее Бог поцеловал в прогалинку, устремленные до какой-то черты в будущее, а затем падающие с обрывов. Иногда легко не опознать собственных воспоминаний. Их фрагменты принять за воображение. Чувствительность ко временным промежуткам образует морщины. Женщины Ирландии. Они отвергают трахатории. Промежутки от одного мужчины к другому растут, расширяются, кажутся им вечностью, кажутся им испытанием, Бог говорит во время пауз, Бог замолкает во время нового шторма, можно выстраивать графики сердечной интенсивности, затем все гаснет, зеленые завихрения кардиограмм – это четки на утонувших запястьях. Каждая пауза – повод для воспоминания. Повод расчертить глубину. Отметить на карте отмели. Изредка на дне встречается что-то заслуживающее внимания. Такой член, что отсимметрирует вокруг себя бытие. Какой она была до того, как вышла замуж? До того, как упала в постель, чтобы два обратить в три? Рисую такую женщину, которая любила настолько, что отдала мужчине вовсе не разветвляющуюся красную широту, а собственное имя, осталась безымянной, осклизлой, как риф, обагренный пятнами нефти айсберг. Добровольно запертая в это и боящаяся отпустить, стать чем-то иным.
Женщина курит своим запястьем, обсуждая «Мухи», желая стать мухой в клоповнике собеседника.
В воспоминании о кромлехе значимо одно. Истовые женщины, лютые женщины. Не знаю, как они называются, рожденные из цикуты. Я знаю, что корни цикуты повторяют под землей структуры человеческой кровеносной сетки; эти женщины выползают из земли, очищают свою наготу от земли, в их крови нет ничего, кроме яда, и они не знают об этом. Чистые дочери осматривают луга. Цикута всегда растет там, где хочет. Луга, далекие от городов. Смазанные бугры тел, Локусты18 зреют в сердце ядовитой почвы. Волосы зачесаны назад, смазанные болезненностью суставы украшают пробор и фаланги заложены за ухо. Укусы подобных женщин отравляют род человеческий. Страшнее, чем все другие яды. Встреча с мужчиной не завершается смертью. Яд проходит сквозь мужские губы, оседает в его крови, вызывая потливость и странные скопления около коленной чашечки, когда нога сгибается, можно наблюдать, как скопление цикуты перекатывается в слизистых полостях. Все сцеживается в яичках и передается по наследству. Яд выкачивает возможности. Сын современности просыпается с усталостью, устремленный в прошлое, и не знает, как его прадед встретил ядовитую деву. Замедленное убийство растянуто в тысяче биографий. Усталость. Дождь. Сырость кожных покровов. Иные Локусты дарят такие возможности, что после нее каждый день – страдание. Поцелуи, похожие на героин. Возможно, каждое мое горе – это следствие переливов цикуты в коленной чашечке моего деда. Никогда нельзя быть уверенным. Никак нельзя спастись. Все несчастья, молчание, все, как игра дудки, – нарастает, а затем разворачивается, печаль, похожая на лунный лотос, источающий миазм беды. Потомки цикутных дев в столицах. Гарпии, чьи мозги формируют ложные пророчества, – эти гарпии ощущают происходящее с ними, как несчастье, а пророчества, как правду.
18. Римская отравительница, услугами которой пользовались Калигула и Нерон
Огромный, огромный, огромный, огромный. Мужчина, как Джекоб Блём. Однажды он отыскал Деву Голода. В пещере, спуск в которую – это коридор, линия между смертным и нет, он спустился, он отыскал ее, одну из тех Дев Голода старого столетия. Она сидела в кресле посреди темноты. Он, огромный, огромный, огромный, огромный, был шутом собственной темноты. Она вязала штаны из мужского мяса. Раскуроченные тела лежали у ее ног, ее дети – это гомункулы, ожившие ладони или коленные чашечки, двигающиеся сокращающимся движением, как гусеница. Все они молчаливо ползали по заляпанному кровью дну. Девы столетий двигаются, как движение света. Они пронзают все земное пространство, тени Лилит, они шевелятся в каждом скоплении сумрака. Они неясны и будто вымышлены, как клитор фригидной. Огромный, огромный, огромный, огромный спросил ее «почему?»
Я бы спросил зачем?
Как?
Когда? Главный вопрос – когда (?) – обращенный к центру Бога. Обращенный к женским пророчествам. Когда ход времени изменится, кровь двинется вспять от какого-либо события, и я смогу изменить ритм? Я был бы рад любому ответу, стал бы центрироваться на него, при этом зная о низменности женской природы.
Огромный. Плачущий изнутри. Потливость, обращенная к центру. Спросил «почему?», и она ответила, что родилась подобной. Жадной к ожиданию. Она вяжет мужчину из жил других мужчин. Собственного мужчину. В пещере, как мать Гренделя. Что сердце земли изъедено подобными пещерами, подземными городами подземных матерей. Что они – это дочери, черви, выползшие из задницы Мрака. Они – кристаллизованы. Огромный (вроде бы его зовут так) Джекоб понял и сказал ей «значит, мы, отвергающие Вас, отвергающие женщин и любящие мужчин, как спасители мужчин, как ангелы? Сотворены в вечном унижении, внутри инквизиции, кого называют темнотой, двигающимися во тьме дымоходов и ворами потомство – ангелы?», крылатые гарпии, публичные дамы с сердцами – скоплением угрей; дырочки и скважины намазанные аконитом, фаллоцентричные сознания, глубоководные женщины с хищными пастями посмотрели на него, на его огромные ребра. И начали хохотать. Пронзающее нервы и спину унижение, вновь он ощутил свою сумрачную сущность. Дева Голода продолжала сладострастно вязать. Она убивала мужчин. У одного воровала пальцы, у другого адамово яблоко. Она хотела связать совершенного мужчину. Того, кто не имеет внутри себя привязки ко времени. Того, кто не позволит ей устремляться в прошлое или будущее. Того, чьи руки смогут удерживать внутри себя настоящее.
Воспоминания, расползаются из одной точки и одновременно уносятся во все направления. Люди одурманены идеей эротики, как спицей, которую можно вогнать в сердцевину и накручивать вокруг нее линии воспоминаний. Создать кого-то своей сердцевиной. Связать того, кто никогда не покинет. Если выдернуть спицу, огромные километры наших воспоминаний развернутся вновь.
Ирландские женщины, плачущие, как чайки. Чайки, которых описал Джойс. Демонические цветы яда. Ангелы, потерявшие свои сущности. «Мухи» звучат все чаще, обсуждаются яростнее. В ночном небе все развалено и похоже на руины.
Он идет за руку, чтобы посмотреть на труп. Труп девочки? Нет, это тело умершего мальчика. Между деревьев растянули желтые полосы, чтобы никто не приближался. Это мое последнее зеркало, последняя вариация на тему нашего свидания. В парке рядом с твоим домом. Ты – со своим другом. Идешь смотреть на тело мальчика, на мое тело, убитое каким-то недугом, и изменившее известную композицию парка. Как мало надо, чтобы привлечь тебя, этот запах, легкая синева, густые тени ползают по телу умершего. Внезапно труп становится главным действующим лицом парковой зоны. Звуки проезжающих машин – звуки его смерти; тени деревьев – декорации его гибели. Прохожие – это зрители. Вода – источает подходящий запах. Мой труп – то произведение искусства, которое подчиняет себе бытие этого парка, приводит твои ноги в движение, доставляет тебя к желтым полосам, которые делят парк на зоны. Зона ВНЕ и МОЯ зона, зона с телом умершего мальчика, раскинувшего руки. Рана на руке будто сделана ножом для резки бумаги, кожа, как желтый картон. Капли грубой крови собраны на лацканах, клетчатый пиджак, небрежно откинутый зонт, солнечная погода, чайки очерчивают круги вокруг моего трупа. Все это – твое воспоминание, которое я смею придумать, потому что все уже обратилось в закономерность. И я уже уверен, что в твоей памяти найдется нечто, что похоже на это. Ведь наша память обманчива. Мы готовы вдолбить в ее недра любую ложь. Парк, слова. Умершего мальчика. Пещеру с чудовищной женщиной. Навязать своему рассудку необходимость и любовь к детям. Тело мальчика, который похож на Рембо, который своей смертью протянул золотые цепи от звезды к звезде, от одного фонаря к другому. Думаю, ты уже почти можешь это вспомнить, это непроисходящее, эти его глаза, значимые и какие-то ВЕСОМЫЕ только оттого, что это глаза трупа. Глаза первого трупа в твоей жизни. Ты запомнишь их навсегда. Не потому что они какие-то, а потому что НЕЧТО принуждает тебя думать, будто увидеть труп – это значимо. Будто что-то меняется после этого.
Акт III.
Костры тщеславия.
Здравствуй комариная потная родина
где река и вода теряют себя под бензолом Его произвола
где повитуха вспарывает себе Его брюхо
где кормилица "отсоси мои голые ребра"
где солдаты "еби мои чресла, вспоминай свою матушку"
где шахтера кайлом – месят бурое мясо Его капилляров
его аорты его нефтеподобной крови
где на поле – ветер сажай, ветер сажай и ухаживай за ростками
и на первом уроке – ***югенд: "Здравствуй, Тихая Смерть, аве, быстрая Смерть,
Славься, Мучительная погибель!"…
…где пожинать ураган – дождутся только умершие.
Здравствуй!
1. Нико 1/2
…еще ближе к вокзалу мертвых; в том городе, что на прямом луче от места убийства длинношеей девочки, стоит большой дом Кросс-энд-Холл, и он почти такой же, как дом Алистера Кроули. Столь же поврежденный магией Граумзалока. Здесь шумит вода этого источника: она в земле, и лунный свет, пролетая над Кросс-энд-Холл, тоже шумит водой. Грязной водой, признаться; кажется, что в этом ручье утонула крыса, целая стая крыс, может быть – это грязный и серый дом.
Здесь – приличная семья. Она ничем не выделялась бы, но жемчужина под костистыми сводами чердака. Он сложен, как старинный тренсепт, хорошо уничтожающий крики. Если спальня находится на первом этаже, или если ты принес доброжелательным хозяевам Кросс-энд-Холла пиццу, тебе никогда не услышать, как кто-то беснуется под чердачными досками. Но вот если ты начнешь подниматься по крутой лестнице (открытой и беззащитной лестнице, сложенной так умело, что ни одна Кровавая Кость не смогла бы проникнуть под эти ступени), гул странного стона начнет нарастать. Похоже на колокол или крик грача.
Говорят, ее крики бьют стекло. Поэтому на чердаке нет стекол, и оконные провалы зарешечены, дождь проникает внутрь. Старина ***, семейный вожак, говорит, что дождь – наказание. И он начинается лишь тогда, когда заколоченная тайна Кросс-энд-Холла плохо себя ведет. Дождь заливает кровать «тайны», ее саму, ее одежду. Волосы прилипают к черепу.
Но *** так же говорит, что Бог – существует.
…
Госпожа Нико – я хочу представить вам ее прямо сейчас, когда закатный огонь можно принять за открывающейся перед темнотой занавес. Каждую ночь или каждый день в затмение, в любой миг темноты, Нико начинает танцевать. Она истинная актриса, слегка сухокожа, и, как все нимфетки, обожает тень, торжествует ее лучшим гримом гнилых морщин.
Вначале посмотрите на рот. Морщинки собрались вокруг него отвратительными скоплениями; будто морские камни вздыбливаются и проваливаются в странные щеки. Травмированная ранним детством, Нико не имеет правой щеки, а значит, все морщины собрались лишь на левой ее половине. А та, правая, остается бесполой и вечной; разодранная до серого сухого мяса, вечно скалится и не может перестать, и неровные зубы – вечно открытые публике. Тронный зал, и Королева торжествует.
Нико стыдливо заламывает руки. Шепчет луне, мол: Я – танцовщица луны! И я-то знаю, что Король Безумец убил бедную миссис *** – а еще это: Головастики – маленькие человечки с большими хвостиками между ног!
Слова ее задыхаются в душной и тесной гортани. Когда они все же вырываются на волю, то звучат гнилым ветром. Нико не умеет держать слюну внутри себя. Вечно мокрый подбородок.
О, госпожа Нико, она в своей ночнушке уже много лет, босоногая госпожа, с пальцами средней длины и ногтями на них длинны до «омерзительной закрученности». Нико часто снятся влажные сны. Но, кажется, ногти нужны ей, чтобы спасти свое тело от саморазвращения. Ей хочется поиграть с собой… ей иногда очень хочется этого. Очень хочется. Но Богиня-Луны, Не-дающая-Королева велят держать себя целомудренно.
У нее плешивая голова.
Мутные глазки и диатезная кожа. Бледная, до синевы.
И там, промеж ее ног, большой бугорок говорит нам, что Нико-то, красавица Нико – мужчина. Покрытые шерсткой ласкового тигренка яйца, простата, уретра – все, как полагается. И черные усы. Их некому сбривать.
Милашка Нико больна. Она – это постыдная тайна жителей Кросс-энд-Холла, и она будет спрятана здесь до самых своих последних дней.
Разум почти не работоспособен.
У тела подчас начинаются спазмы – чаще всего по утрам – и тогда она начинает кричать.
Но к Нико никто не придет.
Блюдечки с крошками, чашки с застывшим прошлым, с тараканьими яйцами, она бережет и хранит в уголке. Весь ее клад шелестит по ночам, красавица Нико боится тишины.
Когда она кричит, все делают вид, что на чердаке играет ветер. Когда она впивается ногтями себе в грудь и шепчет со слюной на губах – я буду, как жена Джекоба Блёма, я буду как жена Безумного Короля – пытается оттянуть себе соски и стань еще более женственной, никому нет до нее дела.
Она лижет блюдца язычком, как собачка.
Ее губы наловчились выхватывать с дешевого стекла макаронинки в пресном соусе и со свистом заталкивать их в гортань.
Старая постыдная тайна думает, будто он избранник луны, шепчет сегодня, в день убийства длинношеей девчонки, припав к решеткам: Ах’камагар, Король Безумства, ахе’камора, Нико приглашает вас на последнее сальсо…
2. Гешефт.
Небо призрачно, осень в нем выражена несколькими облаками: одно, как случайный возлюбленный; другое, как корона Георга со свитой виконтов и придворных дам вокруг зубчиков; и третье, как черно-осенняя лиса, но не обычная, – с нездоровым носиком, будто эта лиса вначале была человеком, затем обратилась в лису, и лишь затем растворилась в небе (может, взлетела, и ее расплющило об осень, чтобы она плоско парила). Я свернул Налево, и мне встретилась случайно заплутавшая в переулках шлюха, ее кожа была, будто растянутое бытие; многоточием она бегала от одного дома к другому, пытаясь спастись, кинулась на меня своей человеческой натурой, стала просить вывести ее, в окружении золотистых спутанных волос ее личико выплакалось, вытерлось, ее тело было дисгармоничным и беспомощным, она уже начала превращаться в лису, но так как никогда в жизни не смотрела в небо, еще не могла предсказать, что будет далее: подкинет, растормошит и сделает тучей, «куда мне!? Я…», прошел мимо, она кинулась следом, а затем поотстала, снова расплакалась, будто перепонку проткнули, жабры выпустили воздух, какому-то мужчине опустошили кошелек, он, наверняка, думал, что это белобрысая проститутка, а еще он подрабатывал гаданиями для тех, кто давно мертв; не потроша будущее, он просто объяснял умершим и разворачивал перед ними жизнь, как притчу. Не было для меня лучшего места, чтобы упасть внутрь тебя, внутрь твоей исповеди, которая была, конечно, далека от истины, но все же более ясна, чем любое из слов, которые ты мог бы мне сказать… мне бесконечно трудно объяснить, как это происходит, как все мы находим Левый город, может быть, по воле случаев или закономерностей, но я уверен, что ты не из тех, кто жаден до мелочи так, как жаден я; твой дневник, который был важнейшим гешефтом моей жизни, взмокший от прикосновений моих пальцев, лежал в кармане, и казалось, что в кармане у меня лежит сердце, мне хотелось тотчас съесть его, ради святотатства и падения, ради противоречия, потому что я всегда поступал против собственных естественных желаний, превентивно остерегался Воли и бежал от нее Налево.
В этом кабаке я испытываю давно знакомое чувство: противоестественное презрение к постоянному клиенту, обслуживающий персонал презирает тех, кто приходит каждый день, будто уже полностью составил об этих выпивающих свое последнее мнение, в этом месте за столами сидят и ходят между столиков безымянные старые знакомые, с которыми мы никогда не знакомились; мы знаем их тембры, их нервы и осколки бесед. Иногда мы не любим кого-то по одному отпечатку тела в воздухе, или по непроизвольному звуку, а иногда желаем познакомиться с кем-то за задним столиком, с его татуировкой и выдохами, но не делаем этого, потому что боимся и потому что оправдываем свой страх мнениями персонала и других, которые так же, как я, делают обо мне и моей тени выводы сквозь каждое мое движение.
Его зовут Кетер19, венчик; небо, в которое я смотрю; у него есть человеческое имя, все об этом знают, итак… подождите, я войду в нужное русло, смотрите, я вхожу в нужное русло, видите (?), я уже сел на закабаленное мною место, рука сомкнулась на теплом бедре кофейника, коричневая струя его мочеиспускания заполнила полость, я открываю дневник, сейчас все станет понятно… ради разоблачения, подспудно желаемого приговора, мне хочется, чтобы каждому сидящему в этом зале стала предельна ясна моя история, мне надоело, что другие постоянные посетители с их кофейниками, драмками и кружками додумывают меня, хочу, чтобы они узнали все. Я пребываю для них в славе Пишущего, постоянно что-то стучащего на клавиатуре, а иногда вытирающего с нее пролитый кофе; кто-то заглядывал мне через плечо, но они ведь не могли знать, насколько я правдив в той или иной строке, добрая часть смысла растворяется в шуме играющей музыке, какая-то часть не парализует чужой рассудок, а какая-то оседает внутри и коверкается; я знаю, что они пытаются понять мои истории так же, как я придумываю их, сидящих от меня по соседству. Я думаю, что мужчина за столиком Б-6 (конечно, мы вынуждены придумывать координаты, раз уж мы анонимны друг по отношению к другу), который читает Карра, пытается бросить курить, потому что курить вредно, но курит, потому как у него нескончаемо случается что-то плохое, я бы сказал, что он влюблен, но это не так. Его печаль не протекает из одного источника, каждый день он грустен от разных причин, курит по-разному, иногда разные марки, иногда он зеленоват от каких-то заплесневевших шрамиков, а иногда розов, как шанкр. Гермафродитичная дама однажды читала Ведангу20 за столиком Е-8, но она ничего не внемлет из Веданги, вероятно, у нее был роман с каким-нибудь индологом, но это было очень кратко, и после этого она совсем перестала ухаживать за собой и скрывать двойственность своего нутра. Двоедушие слишком естественно, чтобы мы думали о нем. Г-14, большой и круглый стол, напоминает дряхлой девчушке с жиром внутри живота о маминых похоронах. Игра в угадайку была бы забавнее, не живи мы в век сотовой связи: иногда из конца в другой конец зала долетают целые исповеди, которые, обращенные одному лишь адресату, находят понимание в нас; когда исповедующийся злится (мы видим это, в отличие от адресата на другой стороне волны), мы понимаем, что поняли из исповеди больше, чем тот, для кого она предназначалась. У мужчины Д-45 в душе живут крыски; он носит ожерелье из крысиных голов, чтобы тело сопоставилось с духом.
19. Одна из сфирот каббалического Древа Жизни.
20. Условно – руководства по шести отраслям знания, предназначенные для правильного проведения ведийских ритуалов.
Я для них странен тем, что не пытаюсь оттенить свое Я, спрятать его, при этом не относясь к простецам, которые откровенно беседуют в свои телефоны; самые умные понимают, что мои фокстроты по клавишам – это ложь, замануха для кабака и тех его жителей, которые хотят лучше узнать своих соседей. Подчас мы пишем друг другу письма на салфетках, когда желаем эксгибиционизма, иногда мы умираем, и кто-то прикалывает к нашим лицам эти же салфетки, чтобы не видеть наши мертвые лица до той поры, пока официанты не уберут труп. Осоловевшая от смерти девочка расклячила ножки, мочевой пузырь опорожнился перед путешествием в Рай, это напомнило мне случай, по которому я потерял тебя, когда я опоздал на важнейшую встречу, потому что в метро, Чеховская, выход к левой стороне Пушкинского кинотеатра, мужчинка отливал на умерший эскалатор с таким самозабвенным видом, что я уделил ему пять минут в восторге от его смелости и в волнении, чтобы милиция не удостоила его глазами; я смотрел на него, пока опасность не миновала, и он не застегнул ширинку. Тогда я побежал вперед, но было уже поздно, и мы с тобой разминулись, а я тебя люблю; и никто в кабаке, никто и никогда и нигде не различит во мне любящего, потому что у меня нет своего голоса, потому что я пишу Нечто неопределенное, на Левой стороне (откуда нет возврата), я разделен на великое множество Я, но при этом не шизофреник, потому что написанное мной обращено к патологии, потому что последнее мое творение кричало в воздух о снежном дне, сквозь который шла девушка, шла сквозь погост на могилу матери, и случилось так, что под этим бледным зимним солнцем, которое похоже на воспаленную печень или рану круглой формы, которую обильно облили перекисью, она встретила тех неупокоенных эротоманов, которые и после гибели не могли успокоить себя; один из них, кишки вокруг шеи которого были орнаментом красных и бурых тонов, заломил ей руки, а другой, похороненный в шинели, и оттого выползший наружу в шинели, задрал ей юбочку, а потом подскочил третий, и покрыл ее сзади, как пес собаку, и закусывал свои губы от боли во время этого; понимание, что сломанная шея не позволит ему никогда покрывать кого-нибудь иначе, кроме этой собачей позы, никогда-никогда-никогда над кладбищем не взойдет нормальное солнце, похожее на солнце, никогда ты уже не будешь мне улыбаться, и поэтому солнце, как круглая рана, но в этом кабачке, где обо мне черпают лишь из истории об изнасилованной, все думают, что я рожден ради курения, вульгарного псевдо-интелектуального презрения к жизни и живым, мочеиспусканию, кровосмешению, деторождению; лампа в кабаке очень похожа на щенка, приколотого к потолку длинными иглами; щенка, во внутренности которого инкрустировали лампочки, и свет истово пробивается сквозь медленно утончающуюся кожу и выпавшую шерсть. Это был щенок ретривера, а в некурящем зале – щенок далматинца, ярко-белый свет с черными пятнами на грязном плафоне; на самом дне стеклянного резервуара мертвецы усохших бабочек, ночных пауков, а еще – асфиксичная девушка, от несчастной любви сморщенная до размеров залупы, она лежит в лампе, животом к стеклу и пиздой к посетителям, а спиной к источнику жара и света, и «солнце мертвых» режет огнем ее голую до позвоночника спину. Когда я говорю все это, не стоит думать о «метафорах» и «метастазии моей души», не стоит думать, что я отношусь к сюрреалистам, ведь я сообщаю о Левом городе, том легочном клапане Москвы, где интенция к Злу неисчерпаема, где хрупкая человеческая жизнь становится стеклом, где чудовища фактурны и не являются плодом воображения, а девушка, похороненная в гроб стеклянного далматинца – наша повседневная реальность… если же кто-то спросит, почему столь рациональный, даже циничный голос, как мой, может исходить из этой трущобы, то и на это у меня будет достаточно простой и ясный ответ. Как я сказал, у него есть человеческое имя. Больше, чем любовь к мужчине, меня огорчало другое; то, что в этой любви объекта во мне было больше, чем объекта в самом объекте, иногда мне казалось, что я мухоловка, которая съела свою возлюбленную муху; долгая кокаиновая зависимость, которая расширила мои ноздри до размера Вселенной, привела мои ноги к одному из тех притонов, где торгуют настоящим страданием, и это тот самый кабак, где официанты испытывают презрение к постоянным клиентам, где я так часто бываю, где пребываю сейчас. Но это незначительно, раз уж мне надо развернуть кольца перед каждым, я обрисую Альфу этого приключения, медленно предсказывая ее Омегу, давая каждому домыслить мой итог, который знаменуется самоубийством.
Мы познакомились, когда я сказал, что «не хочет ли он выйти за меня замуж(?), а если его волнуют какие-то приличия, недавно у меня появился женский труп, за которым я ухаживаю с аккуратностью Фиша21 и прочих», и если он не желает даже для самого себя признавать, и «что судьба твоя выйти замуж, а не быть женатым, ты можешь будто истинно жениться на ней, а я просто буду ее вторым мужем». Это был мальчик, внутри которого жил котенок – на момент нашего знакомства это был ласковый зверь болезни, глубокой психиатрической травмы, и я гладил его по шерсти, рассказывая ему о трупах, солнце мертвых и мертвой женщине. Он истинно верил, что в нашей спальне и в нашей постели живет женский труп, и что когда-нибудь силой двойного семени, мы оплодотворим ее умершую матку. Когда он ходил в кино, то мыслил, будто она с ним, будто она его жена, а я – ее муж. Гораздо менее страшным для него было быть некрофилом, чем любить мужчину, хотя бы потому, что некрофилия была игрой, а его любовь текла истинно; как любой другой, он боялся истинных интенций, и поэтому претворялся некрофилом. Мы оплодотворяли подушки, играя, что их складки – ее ляжки; мы целовались, но оставались вне Содома, его признания в любви были далеки от признания гомосексуальности. Как я говорил, мы расстались из-за моего опоздания: в тот день врач признал его бесплодным, а наша мертвая нимфеточка забеременела, он сказал мне «я лишний, потому что есть ты и она, это не наш ребенок на троих, а только твой и ее», и как бы я не уговаривал его, что факты живут лишь в грудных клетках, что моя любовь не может быть выражена семенем, он лишь плакал в ответ и ничего мне не отвечал. Напоследок он будто потерял свой интимный дневник, в котором высказывал себя максимально честно, а я делал вид, что случайно его нашел, хотя, конечно, мы очень подстраивали судьбу, чтобы помириться, он разыскивал повод простить меня за отцовство более яростно, чем я – искал слова извинений. «Случайно» раз за разом мы оказывались в одних и тех же местах и комбинациях, но потом понимали, что наши рты ничего не скажут «случайно», слова порождены усилиями, а мы не умеем говорить. Слишком долго мы вращались в некрофилии Сансары, дабы уметь открыть рот. Ни язык ротовой полости, ни язык любви не МОГ «случайно» сказать самое главное, они лишь болтали о всякой ерунде, вроде холокоста и умерших детях. И чем более полно я был парализован любовью, тем меньше и меньше о ней говорил и был способен говорить. Наш последний диалог, спустя уже год с того дня, когда я нашел его дневник и все не решался прочесть, был о пуделях, ведь пудели такие, такие, такие, он сказал мне «…», я ответил ему «…», он отреагировал Так, а я не понял его знака, потому что любил, а он не понял моего непонимания, как знака любви, и подумал, будто я оскорбляю его, а я не поймал этого и оскорбился, и он сквозь свою любовь увидел мою оскорбленность, как оскорбление. Нам почему-то не удавалось поцеловаться «случайно», рядом всегда оказывались прохожие, проститутки, полицейские, моя жена… на ее день рождения он лежал в моей постели, конечно, «случайно», мы не разговаривали несколько лет до этого и у нас никак не получалось сократить дистанцию, ведь стоило начать с самого начала, а так как все заключено в кольцо, нельзя поймать начал, но мы лежали в постели, потому что наша бывшая общая жена позвала его, и нам стоило с чего-то начать, но мы не начинали, потому что признаться в чем-то сложнее, чем трахать труп или обратить живого человека в труп, я был полностью в сфере его запаха, а он моего, мы корчились и оскорбляли друг друга, но оставались в одной постели, объясняя этой летней духотой, что жара, как сфинктерная мышца обхватила наши шеи, и мы слишком безразличны друг к другу, чтобы разомкнуться и разойтись в разные постели. Я жил в четырехкомнатном гробу, а сейчас он лежал на моей подушке, но прошло уже столько лет, что нам молчать было более прилично, чем говорить; быть с кем-то на одной подушке совсем не стыдно, если ты претворяешься безразличным; я слишком любил, чтобы пытаться прижать его к Нирване или в логический узел, какой-нибудь фразой из строя «зачем лежать с незнакомцем?», он же тоже ничего не говорил, боясь одним своим словом зачать во мне Такую реакцию, которая будет трактоваться, как безразличие, а этого бы он не вынес. Его распирало от боли, когда я говорил хоть слово, потому что слова были не такие, как он себе выдумывал, меня распирало от боли его молчание, потому что я трактовал молчание, как «плохо», а он, как «плохо» трактовал слова. Наши противоречия были спаяны, как спаривающиеся медведи, мы безразлично лежали как, конечно, и лежит один безразличный подле друг другого, как подле трупа труп, и наши гениталии разбухали от безразличия друг к другу. Наконец, я сказал «давай найдем еще одно женское тело?» и он ответил «с меня хватит», решив показать этим, что больше не хочет два обращать в три и хотел бы довольствоваться лишь мной, но я обиженно выдохнул, потому как трактовал это словно даже какая-нибудь мокрая щель не способна принудить его к нахождению рядом со мной. Я встал, чтобы покурить, а он как раз в эту минуту решил, что стоит бросить курить; как вы понимаете, противоборство курящего против того, кто нет, делает любые отношения невозможны; я мог стерпеть его шизофрению, но только не это…
21. Известный серийный убийца.
…наконец, я могу попытаться начать его дневник, я пытался это много раз, много лет. Теперь я почти готов, отыскав себе самое мерзкое из имен, тел, обрастя самой пугающей из репутаций, в самом хлевном из кабаков, я мог начать и вот: …я начал вести дневник, потому что однажды прочел отцовский дневник, ради того, чтобы когда-нибудь кто-то прочел мой, и, может, это изменило бы его жизнь так же, как тогда изменилась моя, ведь никто не читает дневник Постороннего, а значит, укравший мой дневник, будет заинтересован во мне… край моей психики так хрупко, что я не могу даже представить выражения любви ко мне в какой-нибудь нормативной мелочи, даже в поцелуи или чем-то еще, слишком объективно говорящем обо мне; скорее уже я поверю, что меня любит тот, кто украл мой дневник, кто ударил меня этим, кто засунул руку в мою душу и вытащил оттуда дневник, чем слова «я люблю тебя», скорее я поверю тому, кто боится выпустить всякую мелочь, желает видеть меня, когда я отливаю, кому больно не вобрать какую-либо часть меня, самую незначительную, чем тому, кто купил мне часы на цепочке, не знаю, как этот крой сопоставит, если один и тот же подарит часы, а затем украдет дневник… я ищу диссонанса, я ищу катастрофы, я люблю тонущие корабли, я боюсь утонуть, я боюсь того, кто любим, я ищу любви, я хочу утонуть, я хочу бояться, я хочу на корабль, я хочу кораблекрушения, я хочу катастрофу… только любовь, которая как катастрофа – для меня любовь – а всякая другая любовь для меня лишь лексическое выражение похабного желания в мою сторону, желания раздвинуть мои бедра, найти прилипший к правой ноге член, желанию вздернуть его и придать ему жизнь, но не ради того, чтобы во мне жила каждая из частей, но ради услад, который получит ожививший после того, как он оживет; я бы хотел, чтобы кто-то притронулся и оживил его, но не ради себя, кто-то, кому противен, может быть, его вид, или кто думает, будто после соприкосновения с членом, на руках откроются моровые язвы, я бы хотел, чтобы вопреки язвам его коснулись, я хотел бы упасть лицом в моровую язву и лизать ее пологий край… я выкрал дневник моего отца в тот день, когда крикнул его разговорчивым губам «я ненавижу тебя!», и погрузился, любя отца, в этот дневник, и в тот день многое тайное о человеческих душах стало меня чуть менее тайным, я будто составил мнение о том единственном случае, в котором я буду счастлив, все возможные комбинации счастья я сузил до одной (с уже упомянутой язвой) и сказал Богу, что ничего иного мне не нужно, и если я не рожден для счастья, то легко пойму это… легко понимаю это, ведь каждый день ни у кого нет язв, каждый день нет катастрофы, я так несчастлив и мертв, но я твердо знаю о том одном, что устраивает меня, я точно знаю, чья язва мне нужна, я нашел ее, когда мертвая матка сократилась, ведь теперь я мог ждать, что он выпотрошит ее легким ударом или не выпотрошит… у меня нет ощущения времени, есть три дня и триста столетий, я знаю о круге, я знаю… <упоминание моего имени>, рядом «язва» и «катастрофа»… и поэтому я больше не могу читать, лицо мое содрогается, душа моя язвится, гной из язвы выделяется, как молофья. Сейчас мне хотелось бы поцеловать его разгоряченный анус, но окажись Он здесь и именно сейчас, я бы дал в его зубы рукой, как единственно-возможная защитная реакция на желание поцеловать в анус, будто он мог прочесть мои желание сквозь зеркало моих поволочных глаз.
Мое сердце билось в кармане,
куда ты убрал свои руки,
и мы – незнакомцы друг другу —
рану прижали к ране,
будто братаясь с болью,
помня о том, что будет,
что вечно рождаться станем,
прижавшись друг к другу раной,
что вечно рождаться рядом
на брачной постели гнева,
зачав друг от друга гнев,
никогда не касаясь взглядом
взгляда того, кто рядом.
Время измерялось стажем моего отцовства, и время действительно было кругом, тогда как мои взаимоотношения и их отсутствия с Ним – коридором – может быть, сквозной дорогой сквозь сфинктер Сансары, ко всему и ко всем Кроме сердце мое было пустой норой; темнело за окном, ведь начиналась ночь, столики медленно пустели и злая часть посетителей разошлась, не услышав моей истории до конца (без конца в кругу), но я думаю, что не от скуки, а от того чувства, когда нам хочется уйти чуть раньше, чем будет конец, чтобы сохранить в себе к чему-нибудь страсть и стремление; разве мы не желаем закрыть книги до эпилога, но дочитываем их до конца, перебарывая страх; или вынуться из кого-то до семяизвержения, но не вытаскиваем, принужденные природой к продолжению рода; я думаю все ушли, потому как слишком страстно желали остаться, они пошли целовать своих жен, ибо хотели разбить их зубы или целовать своих жен без мыслей относительно желаний, потому что жены для них не были коридорами, а лишь точками, из которых состоит многоточие Сансары, рельсами, по которым ездил их пах, иногда стрелки переводились, иногда долгие часы поезд двигался в одном наскучившем направлении… Все разошлись, потому что их кофейники опустели, чтобы вновь заказать кофе, или чтобы не показать мне, будто я интересен им, они не оборачивались и не знакомились со мной. Так и я не оказываю облакам внимания: облаку-короне Георга, облаку-лисе, и третьему облаку, в котором я всегда тебя наблюдаю, будто моими мыслями о тебе я распял тебя среди осени, и твоим слезливым дождем мою пах, признавая в этом тет-а-тете, как я ценю не только твои нормативные объективности, но и слезные каналы, мочеиспускательные импульсы, семяизвергающие утренние молитвы в кулак.