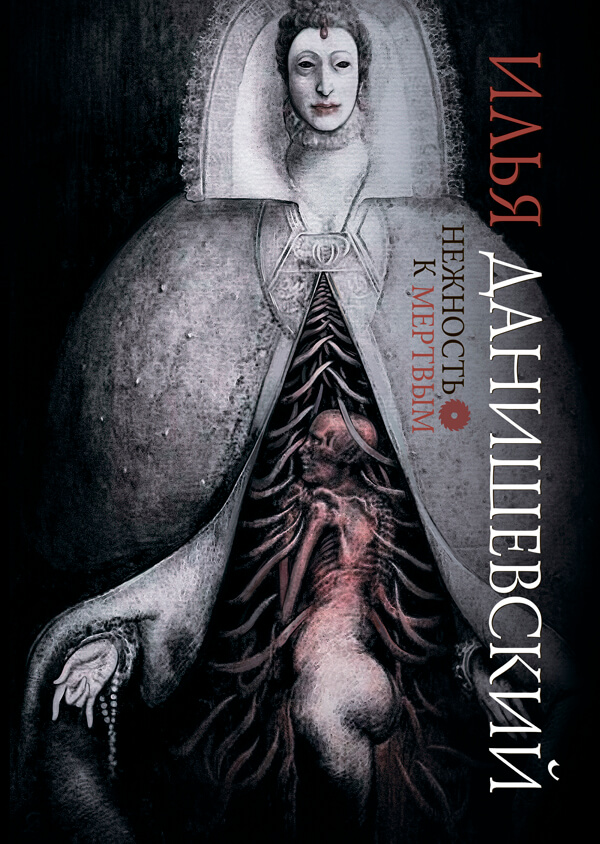Страница:
2. Марсель, принц Ваезжердека 15
Сон
А под сердцем Яна Гамсуна бился ночной кошмар. Проглотившие паука ощущают горлом конвульсии тонущего в слюне, а Ян Гамсун ощущает под сердцем ночной кошмар. Улицу заполнила ночь; откуда-то с запада в мансарду проникал тусклый свет маяка. Маяк погасили тридцать лет назад; Гамсуну было ровно шесть, когда моряки устроили празднество в честь смерти маяка. Свет погас. Свет навсегда погас, но Ян помнит, как вращалась яркая лампа на голове этой башни, как исторгаемый ею луч ощупывал город; голодно… голод, под сердцем, был голод; ощупывал с голодом, приценивался к уличным, иногда забирал с собой уличных, дети того времени верили, что их, умирающих от чахотки, забирает с собой маяк; а теперь их забирает лишь темнота. Ян ворочается, и свет давно мертвого маяка проходит сквозь окно; в его свете ярко и красно блестит оттопыренная заячья губа, бликует свет по слюне; бьется ночной кошмар. Там, в его глубине, будущий сутенер вспоминает мать. Она не двигалась. Он хватает ее, а она молчит; он тянется, а она молчит. Повсюду – только темнота; день, ночь – темнота; он дергает ее пальцами, и нога матери мягкая, вцепившись ей в кость, Ян плачет. В своем обмороке на мансарде, он причитает и зовет свет маяка; луч холодно проползает по комнате, исчезает, делает свой круг, и вновь пляшет по заячьей губе.
15. Один из самых макабричных районов Комбре, по традиции считающийся своеобразным «проспектом красных фонарей». Если Комбре в целом прямо ассоциируется с пространством снов, то Ваезжердек – с влажной их частью. Время стабильности и благополучия закончилось, когда люди покинули Комбре; шлюхи Ваезжердека вынуждены были оправдывать свое существование, воссоздавать новую идеологию своей пасмурной жизни. Тогда же возникает религиозная окраска извращенных и часто гомогенных актов звериного сношения. Старый маяк – стал алтарем малофьи и растраченной невинности. Казалось, шум свального греха мог пробудить Комбре от многолетнего сна, но нет, и Ваезжердек так и остался – и останется до Зимнего Луностояния – очагом неистового рукоблудия, сомнамбулического поиска взаимной любви и тошнотворной печали.
Луч заставляет старую кровь на полу блестеть. И в центре этой крови высвечивает железо. Едва приоткрыв глаза, Ян наблюдает, как что-то блестит посреди мансарды. Прижав к животу ладонь, он ощущает теплые ребра, и урчание кошмара. Тот бьет ногами; тот почти появился на свет. Луча маяка уже нет; толстое стекло разбили железными палками, и оно осколками осыпалось вниз; маяк уже мертв, но, кажется, его свет только что был в этой комнате… голод заставил Яна встать. Кажется, он не ел несколько суток, хотя, конечно, в этой темноте не могло пройти и более двух дней. За стеной резал кукол обезумевший старик. Того зовут Акибот; старина Акибот с вытравленной на плече русалкой; у той раскосые глаза, и ниже мохнатого паха член якорем; Акибот делает кукол, и сдает Яну Гамсуну старую мансарду, а нижние этажи – проституткам мамаши ***; в доме часто стоит кутерьма, в доме постоянно все слышно, а особенно то, что не хочется слышать, и поэтому Ян уверен, что не мог проспать более двух дней; эти девицы из 4-й и 6-й комнат стали звучать под клиентами громче и жутче с тех пор, как зло поселилось на этих улицах. Они звали его; и хотели умереть; хотели в каждом клиенте найти свою смерть, а по ночам, или лежа под моряками, которые слишком трусливы, чтобы утолить мортидо путан, мечтают о смерти. Им видится лунный серп, входящий в шею, и выходящей с другой ее стороны; невидимые нити, вздергивающие два окончания этого серпа к небу; и мечтают дергаться на этих нитках, как куклы старины Акибота; эта жизнь встала им посреди горла, и они бы хотели, чтобы лунный серп распорол это, обезумевшее от застрявшего в нем, горло, и выпустил ЭТО; и чтобы ОНО стекло по шее, к обвисшей груди, и капало на город с пяток, когда тело вздернется к небу на невидимых нитях. Ян знал, как они хотят смерти.
Гамсуну, когда он приблизился к предсердию комнаты, вновь показалось, что на красных досках что-то лежит; будто аорта выпирает и усердно показывает, как в ней урчит кровь. Но Ян отходит подальше; хрустит одна дверь, затем другая, и вот он уже протирает глаза, чтобы наваждение растворилось, в комнате Акибота. Не утружденная приличиями, Селина накинула пиджак кукольника на голое тело. Она смотрела сквозь наполненную сигаретным дымом комнату, чтобы отыскать в этом дыме самого Акибота. Ян не раз видел, слышал и чувствовал Селину; ей было двадцать, и от чахотки она заходилась по ночам так, что ее шлюха потеряла в цене и теперь едва сводила концы с концами. На ее правой груди была большая расплывчатая родинка, похожая на остров посреди белой кожи, и, заходясь кашлем, Селина до сих пор верила, что это – карта; и на карте указано родинкой сокровище. Она рассказывала это на каждом углу; не боялась, что кто-то с нижних улиц срежет с нее кожу, и воспользуется этой кожей, как картой; может, даже хотела такой участи. Или уплыть с ним – волосы которого падают на загорелую грудь – за разбитый маяк, и чтобы его рука нежно отодвигала край платья, пальцами по этой родинке, и, сверяясь с координатами, сумела отыскать обетованную землю. Но иногда ей снилось, что когда она родилась, младенца принесли старику Акиботу, чтобы тот ножницами рассек пуповину, а тот уронил на ее живот сигарету, и так появилась «карта»; она просыпалась от кашля, от того, что кровь наполняла легкие, пыталась откашлять бронхи, и вывернуть посреди комнаты свое содержимое… но содержимого никакого не находилось, и Селине от боли продолжало снится, что она выплевывает наружу себя-красную-внутреннюю, оставаясь на старом матрасе собой истинной – лишь кожей без содержимого, с вульгарной родинкой на правой груди.
Комната походила на морг. В дыму лица кукол очеловечивались; Ян видел, как целый ряд кукол у дальней стены ощупывает кирпич искусно сделанными пальцами. Они хотели вырваться; проломиться наружу, но снаружи тоже ничего не было; тихая улица погружена в ночь; но куклы не знали этого и хотели сбежать; а старик Акибот не препятствовал их желаниям.
— Как он выглядит? – спросил Ян у Селины. На кончиках ее губ запеклась кровь, и поэтому он просто обязан был спросить о ее сокровенном острове.
— Далеко… – улыбнулась она, – главное, он далеко. Вялый багет16. Никаких членов. Никаких мужчин.
16. Страна вялых багетов – некое подобие Вальгаллы для проституток. Великая страна радости, где мужчины утратили эрекцию, а вслед за ней – похоть и лидерские качества. Мифическое far-far away, где женщина перестает быть вещью.
— А твой капитан?
— Скормлю его рыбам. Я рассказывала, как один моряк признавался мне в любви?
— Они все тебе признаются, – откуда-то из дыма сказал Акибот.
— Он обещал меня забрать отсюда.
— Ждешь?
— Это было четыре года назад. Я думала, что он мертв. Это красиво. Но я видела его много раз с тех пор, и он меня не узнал. Лучше бы умер. Это красиво.
Вскоре Яну вновь захотелось спать. Он оставил Селину развлекать старика; и вернулся на свою мансарду. Ему вновь показалось, что луч маяка обыскивает комнату. Ему показалось. Никакого маяка не было. Была только кровь посреди, и именно поэтому их маленький дом вчера обыскали. Ян едва мог вспомнить заданные ему вопросы. Но очень хорошо перед ним стояли лица этих вояк; которые едва могли дышать от того, что стоят в самом сердце притона и слышат, как циркулирует по его стенам блядская кровь. Они называли его – «господин Гамсун», и это было смешно; один из них заикался, а второй казался храбрым. Храбрый легко ступил к телу и потерял всякую храбрость. Все оттого, что от двери едва ли были заметны раны; он, наверное, думал, что одна из шлюх словила удар под «господином Гамсуном». Да, вряд ли он ожидал подобного зрелища. Его щеки побелели. Тогда-то Ян и вспомнил маяк. Белый свет его, скользящий по лицу, делал лица такими же бледными; и дома… все якобы умирало в его свете, а затем вновь появлялось в темноте, и снова умирало, когда луч возвращался.
«Господин Гамсун!» – охнул храбрый. Будто с обидой, что Ян не предупредил его; может, этот мальчик впервые видел подобное; но в его голосе слышалась обида, в его желудке – обед, и тот хотел выйти наружу. «Господин мой!» – повторил он и сел рядом с трупом. Яну стало понятно, что на этот раз он зачем-то зовет сюда Бога, и ему хотелось сказать этому мужчине в синем жакете, что Бог не смотрит на улицу Ваезжердек с тех самых пор, как убили маяк. Ему даже хотелось узнать, не знает ли он, не узнавал ли случайно у Бога, зачем и почему убили маяк, но промолчал. «Господин!» – мальчик нагнулся над телом так близко, что можно было подумать, будто он начал молиться холодному мертвенному блеску слегка лоснящейся коже; и тогда, когда он лбом почти уперся в окровавленную промежность мертвеца, второй, который заикался, оттащил его за плечи и сам засвидетельствовал убийство. Ян сказал, что убитая – его сестра. Это подтвердилось женскими платьями, грубо сваленными в углу. «Она была проституткой?» «Нет, она была больна» – соврал Ян; «…с самого рождения она была больная (и это не являлось ложью), слабый рассудок заставлял ее сидеть у окна целыми днями». Потом Гамсун сказал, что просит милостыню на перекрестке между Ваезжердеком и Аушвером17; что однажды толстяк засунул ему монету под заячью губу, и что Ян никак не способен забыть такого позора. А еще он соврал, что не видел СДЕЛАВШЕГО это; потому что ни одно живое не поверит в увиденное. Только живущее под глазом мертвого маяка способно верить, и поэтому Ян поведал о ночном госте только Селине.
17. Один из жилых кварталов Комбре, ставший печально известным благодаря Черной Аннет. Шлюхи Ваезжердека находили в услугах Аннет облегчение от нежелательной беременности и/или новорожденного потомства. Богачки из верхних кварталов в поисках омоложения покупали у Черной Аннет «красное варево» из эмбрионов, надеясь отыскать утраченное время.
«Принц Вялого Багета!»
Яна не интересовало, какое зло пришло в Ваезжердек; он лишь знал, что это зло. Оно не могло не явиться, ведь весь этот квартал так жаждет гибели; когда маяк погас. Оно пришло на зов этой улицы, чтобы медленно умертвить ее. Когда-нибудь, когда последняя проститутка умрет, женский крик больше не будет звать стражу, и Ваезжердек станет таким же, как комната Акибота – заполненным куклами. А потом смрад позовет сюда людей, но зло уже скроется среди мякоти тел и вывалившихся сквозь лопнувшее брюхо останков. Оно растворится, и никто не узнает, как его зовут; пусть даже – Принц Вялого Багета.
…он хотел уже лечь спать, но снова увидел блеск. И нагнувшись, нашел в сердце комнаты бронзовый ключ. Тот был тонкой ручной работы, с раздувшейся головой, на которой кто-то выбил глаза и пунктир губ; этот ключ находился ровно там, где из сердца вылилась наружу кровь. И только это заставило Яна вновь произнести странное имя убийцы, названное Селиной.
Лежа на своем матрасе, Гамсун думал, а стоит ли верить этому имени, которое и не имя вовсе, а какая-то городская легенда. Стоит ли произносить его и потакать моряку, или кому-то подобному, кто хотел обрядить свою вонючую плоть в одежду этой легенды. Но снова ему вспомнилось зрелище и лицо убийцы, которое… которое! ОНО БЫЛО ТАК ЯРКО ВИДНО, ЧТО НЕ БЫЛО СОМНЕНИЙ – ЕГО ВЫСВЕТИЛ ИЗ ПУСТОТЫ ЛУЧ МАЯКА! Когда Ян вошел в комнату, он видел это лицо, и оно точно не принадлежало ни моряку, ни даже человеку. Никто не наряжался легендой, сам Ваезжердек этой густой ночью пришел призраков и сделал свое дело. Как пес, верно и любя, за худым телом двигался луч маяка. И теперь стало ясно, что Он – возвращался, чтобы оставить ключ, и именно поэтому Яну чудилось, что по его заячьей губе бегает белый луч, что глаза реагируют на яркий свет маяка… в груди что-то забилось; Гамсун сжался в углу комнаты, чтобы не вспоминать, чтобы вновь не утонуть в своем ночном кошмаре. Но не смог, и темная волна подхватила его, вынесла сквозь западное окно, разбив его, и унося с собой по улице, заставило протиснуться в узкий люк коллектора.
Яну виделось, что он плывет на спине. Так плывут мертвые, из тел которых вышел воздух. Он подумал, почему Ваезжердек не утаскивает своих убитых именно так, если способен повелевать костям сжаться и протиснуться в узкое перекрестье канализационной решетки. А затем – зачем же? Зачем же самой улице скрываться, не лучше ли показаться свое господство над теми, кто кашляет кровью, и теми, кто холеной поступью в синих мундирах входит в его тенёта? Ян подумал (сильное течение канализации ударило его о стену – тело ощутило боль – прижало к ней, а затем перпендикулярный поток подхватил его и понес дальше), что ОН – пришел смеяться; Ян попросил в темноту, чтобы ЭТОТ исцелил ему заячью губу, коль уж ОН – ангел Ваезжердека; и тут же в его голове пронеслось, и это в затопленные уши совершенно точно прошептал смрадный поток – «Тише и никогда! Найди свои губы сам!» – а затем, не успел Гамсун ничего ответить этому потоку, как вода отпустила его, и он вновь оказался в своей комнате.
Тело болело. Оно все еще помнило, как его ударило о кирпичную стену сводчатого коридора. На нем остались напоминания об этом ударе. Ян ощутил, что губами сжал найденный ключ, и в нем возгорелось то ужасающее воспоминание, как толстый мужик засунул ему монету в рот; как однажды Ян Гамсун будто бы смотрел на себя со стороны, и его второе Я глядело в зеркало, а значит, в комнате единомоментно было целых три Яна, и каждый из них держал в руках бритву и желал перерезать себе горло – тогда только мысль «сколько тел найдут, если Ян Гамсун разрежет себя? И кто из нас – кто из нас троих? – испытает боль разошедшейся в стороны аорты?» – остановило его.
Ян вынул ключ, и испытал тошноту.
Кошмар хотел его обратно; но Ян не хотел вновь тонуть. Поэтому он быстро выбежал на улицу, чтобы вдохнуть Ваезжердек. Но ему не удалось вдохнуть улицы, потому что это улица вдохнула его. Ян побежал, и ему показалось, что он заточенный внутри мертвеца, и идет от самого копчика куда-то к глотке этого лежащего ничком скелета. И он знал, где окажется. Это место было ему хорошо известно. Сквозь глазницы – видно море. Мертвенный свет звезд заиграл на хмурых щеках Яна Гамсуна; и тот заплакал, припав к парапету. Вновь ему захотелось упасть за борт, как хотелось в детстве; тогда ему мешала твердая рука Акибота, воспитавшая Яна, будто сына; а сейчас… а сейчас ему не мешало ничего, но будто бы мешало. Он понял – что такой же, как проститутки мамаши ***, не имеющие силы лишить себя жизни; и теперь он понял, застывший и плачущий, почему дух Ваезжердека пришел. Внизу море мрачно билось о камень, и Ян многое понял.
От этого стало еще дурнее, и он засунул два грязных пальца себе в гортань, чтобы выпустить это наружу. Его начало тошнить, а в глазах всплыл мальчонка, которого точно так же тошнило с перепития и безумия, несколько лет назад. Ян нашел его у этого парапета и сделал своим любовником. Сейчас ему хорошо помнилось, что единственной мыслью было недоверие, как этот тонкокостный выдерживает поцелуй заячьей губой. И только сейчас Гамсун осознал от чего истошно плачет под мертвенным светом звезд: мальчика больше нет; того, кто единственный без омерзения выдерживал поцелуй Яна – больше нет; и от вида его мертвого тела храброго мужчину в синем мундире тошнило так же, как тошнит сейчас Яна, как тошнило самого этого мальчика несколько лет назад, когда он понял, что вся его судьба – быть проституткой на Ваезжердеке.
Где-то очень далеко высился хрупкий стан маяка. Люди выбили ему глаз, потому что боялись белоснежного взгляда. А Яну было проще никогда не задавать себе вопроса, любит ли его это слабое тело или же нет, и поэтому дух улицы пришел и лишил Гамсуна сомнений. Мальчик, торгующий своим телом на мансарде Акибота, надевающий для привередливых клиентов женские платья, умер. И убийца оставил Яну ключ. Теперь этот ключ лежал в его кармане. Кармане штанов? Нет, пальцы находят оба кармана в широких штанах дырявыми. Кармане пиджака? Ян осознает, что на нем совсем не пиджак, а женская кофта, в которой его мальчик встречал клиентов. Вероятно, Ян схватил ее в приступе тошноты с груды другой одежды; или же сама кофта вызвала в нем тошноту, сама кофта приказала надеть ее, и бежать к этой набережной. Да, в ее кармане лежал бронзовый ключ с большой головой. Яну показалось, что на этой голове нацарапана заячья губа, но это – лишь на секунду; а затем – снова ключ, как ключ.
Итак, лишь на пару мгновений могло показаться, что какой-то мистический ветер подхватил Яна и потащил за собой; а теперь он вспомнил, как встретил мальчика на набережной. Наверное, тот хотел лишить себя жизни, как сам Ян когда-то хотел; и точно так же, как рука Акибота спасла Яна от смерти; рука Яна спасла жизнь этого тонкокостного. Не так ли люди и находят себе семью на Ваезжердеке? Кто-то кого-то рожает от кого-то в темноте и выбрасывает в темноту, а потом этого выброшенного находит некто, кто давно хотел бы иметь преемника. Так Ян стал почти сыном старины Акибота; так и сам Ян стал отцом. Никто здесь не знал, что такое «отцовство», и потом Ян Гамсун глубоко целовал своего сына, и заставлял того надевать женские платья и торговать телом. По ночам они целовались; Ян так и не знал, нравится ли ему мужское тело или нет; но знал, что Ваезжердек убил его сына лишь за то, что в какой-то момент Ян Гамсун сказал себе – «Что я делаю?», не веря в любовь этого мальчика.
Тогда, ночью, улица пришла и забрала свое. Все ненужное тонет в древних коллекторах нижнего города. Но когда ты снимаешь рубашку, жизнь надевает на тебя новую, и поэтому сейчас в руках Яна Гамсуна был таинственный ключ, и этот ключ значил собой столь же много, как мальчик, продающий свое тело морякам.
«Принц Вялого Багета»
…снова прошуршала в его ушах.
На пару мгновений ему показалось, что за спиной кто-то стоит; но, обернувшись, нашел лишь спящий Ваезжердек. Страшно похожий на труп, он был бел в свете невидимого маяка.
Явь
Ян спрятал лужу крови под ворохом старой одежды, а затем позвал к себе Белинду. В свете луны шлюха скинула перед ним одежду, встала на четвереньки и стала называть его «господином Гамсуном»; и тогда он понял, что она подслушивала его разговор с инспектором. Ян ударил ее, а затем заполз сверху; ему казалось, что она кричит от медленно умирания, но когда открыл глаза, понял, что Белинда кричит по привычке, а вены на ее шее даже не дрогнули, кровь не убыстрилась ни от удара, ни от быстрой езды.
Ночью казалось, что луч фонаря ползает по ее едва выпуклой груди. Ползает и блестит на серебряном медальоне. Белинда лжет, что она – дочь какой-то аристократки, которую похитили в младенчестве, и эта вещь, – единственное, что осталось у нее от прошлого. Но каждый, и Ян в том числе, знает, что шлюха просто украла его у девицы в сизом капоре, которая пришла поглазеть на тусклую жизнь Ваезжердека. Но сейчас медальон уже слился со смуглым телом Белинды, а иллюзия – крепко вросла в ее разум; Ян ухватил ее за талию и попытался заснуть.
…ему виделось, что он проходит сквозь ее грудную клетку, и оказывается внутри Белинды. Здесь темно. Ночь. Ночь скользит над городом. Все шлюшьи внутренности стали домами, лежащими в каньоне меж ребрами; и в центре этого кафедральный собор сердца. Ян будто наблюдал снаружи, и был самой ночью. А затем оказался в темной комнате, кротким ребенком, который теребит труп матери. Свет не проникает внутрь. Ребенок щупает материнскую ногу и ощущает кость. А затем появляется Акибот; будто из ниоткуда. И приносит с собой свет фонаря…
Проснувшись от громкого звука, Ян понимает, что этот шум доносится как раз из комнаты старика Акибота, и тут же Гамсун мчится на этот звук, оттолкнув от себя Белинду. Шлюха осталась лежать, опьяненная сном об аристократической жизни.
Внизу курит голый моряк.
Поднявшись по лестнице, Ян врывается в комнату кукольника. Того колотит. Руки, согнутые в локтях, припали к стене, и пальцы методично ощупывает кирпичи. «Здесь! Здесь! Принц! Здесь! Багет!» Последнее слово достигает Гамсуна, и он приходит в себе…
…Принц. Багет.
Куклы упали на пол лицом вниз. Старик раскидал их повсюду, и теперь они замерли, как мертвецы. Показалось, что старик Акибот – врач, потерявший в морге обручальное кольцо; и теперь все трупы лежат на полу, а ищущий плачет и бьется о кирпичную стену, потому что памятная вещь закатилась в толстую, шириной с палец, щель на стене. Ян никогда не видел этой щели; в сизом сигарном дыме кажется, что старик замер перед сокровенной дверью, и пытается ее открыть, но пальцы никак не могут найти потаенный механизм. Он засовывает мизинец в круглую щель, пытается вынуть его, на пару мгновений тот застревает, а затем окровавленный мизинец вновь предстает взору. Акибот что-то болезненно шепчет, а затем в слезах бьет железным каблуком ботинка по лицу ближайшей куклы. То трескается; голова отлетает от деревянной шеи и катится к ногам Яна Гамсуна; тот инстинктивно поднимает ее и смотрит в трещины, разошедшиеся по щекам. Никогда прежде Ян не видел в деревянных лицах столько боли.
Вновь запустив в щель палец, Акибот смазывает таинственную дверь кровью. А затем, усевшись на пол, начинает выть.
…на пару мгновений Яну показалось, что с другой стороны кирпичной кладки он видит свет, тот проходит сквозь круглую щель: тусклый и белый свет; будто старый маяк заложили кирпичом, но тот все еще продолжает светить; будто маяк никогда не умирал, а его просто заложили кирпичом.
— Видишь? – наконец, спросил Акибот. Кажется, он пришел в себя; подняв тело с пола, переполз на продавленную кушетку и затравленно посмотрел в глаза Яна Гамсуна. – видишь эту проклятую дверь? Видишь! А никто другой не видит! Говорят, старик Акибот потерял зрение, говорят, что двери нет! Но она есть!
— Откуда…?
— Не знаю. Она была не всегда. Просто появилась одной ночью. Меня это мало волновало, но последнее время я только и думал, что об этой двери. Я просыпался от того, что она звала меня. Дверь хотела, чтобы ее открыли. Но она не поддается. Ян?
…теперь стало ясно, почему куклы всегда стояли лицом к стене. Спятивший старик думал, будто множество крошечных пальцев найдут тайную панель, и комната явит себе миру. Так?
— Ян?!
— Да.
— Ты уснул или спятил, – улыбнулся старик, – уснул или спятил, точно тебе говорю. Хотя это одно и то же.
— Как дверь могла появиться просто так?
— Это Ваезжердек.
— Да, Ваезжердек, – кивнул Ян Гамсун. Ему вновь захотелось спать, и он знал, что, если уснет, вновь ему будет сниться тело матери. Ему будет снится, как он лежит рядом с ее трупом в заколоченной комнате. Не этой ли комнате старика Акибота? Не здесь ли его нашел старик Акибот, нашел, а затем заложил труп его матушки кирпичами, со временем забыл об этом, и теперь жаждет узнать, что находиться в этой могиле?
Единственное, что знал о своей матери Ян Гамсун, так это то, что она – была знатной шлюхой. Королевой или даже Богиней всех шалав Ваезжердека. Была, а затем исчезла, оставив новорожденного сына кукольнику Акиботу.
Только однажды Акибот сказал «она была хороша; столь познана мужчинами, что, конечно, не могла иметь от них детей; и поэтому однажды она сошла в море, и призналась, что ей овладел дельфин, а после этого твоя матушка сразу испытала недомогание и поняла, что от этого белого дельфина ей суждено родиться мальчика; этим мальчиком, конечно же, стал ты, Ян», но стоило ли это даже вспоминать, коль уж старый кукольник возомнил, будто в его комнате внезапно появилась таинственная дверь, издающая по ночам призывные стоны.
Гамсун услышал, как Белинда проснулась и прошлепала босоного к дочерям, живущим вместе с другими шлюхами, на первом этаже. И когда дом вновь умолк, сказал:
— Почему просто не сломать эту стену?
— Надо играть по правилам.
— Чьим?
— Принца, конечно, – улыбнулся старик, – ты разве не знаешь?
— Чего?
— Что Ваезжердек построили на костях королевской армии. Говорят, сам принц с церковной проповедью прошелся по этим местам, и смрад древних улиц задушил и его, и его армию. С тех пор улица любит принимать его форму; ужасную форму. Представь себе голубокрового юношу, обученного белошвейками и придворными шлюхами… что он испытал, увидев улицы нижнего города? Смрад сковал его горло, ужас заставил его кожу кровоточить, и он упал в канаву, где задохнулся вместе со всей своей армией служек и церковников. А новый Ваезжердек построили прямо поверх этой гнили, и улица все еще любит шутить над телом принца, принимая его форму. И если улица играет с нами, она хочет, чтобы мы играли по правилам.
— И каковы правила?
— Никто не знает правил, кроме Ваезжердека. Но если бы ты, Ян, был улицей и играл бы со старым кукольником, разрешил бы ты ему сломать таинственную стену? Я думаю, что вполне очевидно, будто подобное – нарушение.
— Не знаю…
— Он дал мне ключ, но я никак не могу понять – зачем… – простонал старик. Услышав это, Ян вздрогнул. Ему показалось, что его собственный бронзовый ключ начать звенеть в комнате и звать своего хозяина.
— Ключ?!
— Да. Вот! – старик достал из нагрудного кармана вырезанный из бумаги ключ. – Бумажный ключ. Им никак не открыть каменную дверь.
— И что ты отдал принцу за этот ключ, Акибот? Что?!
Кукольник долго молчал. Его пальцы подцепили с полки одну из новеньких кукол, и начали теребить край ее платья.
— Ну!
— Знаешь, Ян, с тех пор как Алисы нет, я все время делаю ее лица. Никак не могу остановиться. Иногда я вижу ее лицо среди облаков. А иногда мне кажется, что сам Ваезжердек, линии его улиц – ее лицо. Понимаешь?
Ян кивнул. Он хорошо помнил, как дочь Акибота весело смеялась на весь дом. Она была холодной правительницей. Под ее тусклым щеками текла настоящая ледяная кровь; она крепко держала этот вертеп в своих пальцах, а сейчас, всего за полгода, все пришло в уныние.
— Я так хотел бы узнать, что за этой дверью… – продолжал старик, – если Оно стоило утраты Алисы, что же Это такое, Ян? Что?
— Но она же не умерла…
— Какая разница? Для меня – что умерла! Уехала, и ни одного письма!
— Ты все равно не умеешь читать.
Акибот замолчал, дав понять, что наш с ним разговор окончен. Его лицо казалось тусклым и мертвым. Кажется, он сам не ожидал, что Алиса может куда-то исчезнуть. В раннем детстве у нее была гангрена, и левую ногу отрезали. Кукольник сделал деревянный протез, но с этой же минуты ощутил, что Алиса будет всегда. Всегда будет сжимать в кулаке этот дом. А потом какой-то моряк увидел ее и с первого взгляда умер от любви; она уезжала, испытывая тяготу беременности, а старина Акибот никак не может прийти в себя от потери. Видимо, равноценным обменом Принц посчитал для него – бумажный ключ. Который значил либо издевку, либо что-то очень значительное, чего ни мой мозг, ни мозг Акибота осмыслить не мог…
…Ян Гамсун покинул старика и поднялся к себе в комнату. Возле дверей тихо стояли двое мужчин, известных Яну. Обычно они приходили каждые три дня, чтобы хорошенько развлечься. Ян продавал им своего мальчонку, и на вырученные деньги снабжал едой и себя и Акибота. Сегодня же ему пришлось объяснить потного вида мужикам, что все закончено. Те прикусили тонкие губы, и попросили хотя бы раскупить женские вещи умершего. Ян с отвращением продал им всю кучу женских платьев, и те, шумя и посмеиваясь, стали обсуждать, кто из них что наденет, и как второй это снимет. Гамсуну стало дурно от подобного, ведь он видел, как большая часть вещей перепачкана кровью; но для других подобная мелочь ничего не значило. Из каталепсии его вырвала странная фраза брошенная одним из мужчин. «Ох и жаль, багет у него был знатный!»
— Что?! – шумно выдохнул Ян.
— Что что? – удивился мужик.
— Что ты только что сказал?
— Шутил.
— Повтори!
— Ну… сказал, что багет у него был хороший, – а потом пояснил, – ну членом твой парень работал знатно, усек?
— Да, – Ян облокотился к стене. «Принц Вялого Багета» – стены вновь прошептала это, и теперь Яну Гамсуну стало ясно о каком Багете шла речь, о каком Принце шла речь… ему стало ясно, что весь Ваезжердек погрузился в какую-то игру. Что-то пробудило мертвую улицу от долгого сна, и она ожила, разворачивая в своем чреве чудовищный карнавал.
Необходимо было показать старику Акиботу бронзовый ключ Принца, попробовать вставить его в кирпичную кладку, но вначале…
— Где Селина? – громко спросил Ян, врываясь в нижнюю комнату. Рот Белинды был занят, и она не смогла ответить, но одна из ее дочерей сказала Яну, что Селина на пристани, вновь (сказано с едва сдерживаемым смехом) ждет своего капитана. Стоило Гамсуну уйти, как все стали подтрунивать над его заячьей губой, и эти слова вонзились в Яна, вновь пробуждая прошлое. Вспомнились поцелуи. Вспомнился пьяным мальчик на пристани. Вспомнилось, как этот мальчик надевал оставшиеся от матери Гамсуна платья, чтобы торговать телом.
Холодный ветер на пристани немного успокоил Яна. А затем ему показалось, что он спит, потому что увиденное – невозможно. Там, на пристани, стояла Селина вся темная-темная, потому что луч маяка остановился на ее теле и, не двигаясь, освещал ее лицо. Кажется, впервые Ян Гамсун разобрал цвет ее волос, разглядел проглядывающий сквозь кожу позвоночник… но, когда он подошел ближе, свет исчез, и перед ним вновь стояла банальная Селина. Банальная и тусклая. Такая, которую он мацал множество раз; Селина, не представляющая никакого другого интереса, кроме…
— Принц!
— Да, – кивнула она, продолжая смотреть на море, – Принц.
— Скажи…
— Принц.
— Кто он!
— Он увезет меня, Ян. Он меня увезет.
— Что ты такое говоришь!? – Ян вцепился в ее плечо и развернул к себе. На ее лице застыли крупные бусины пота; глаза покраснели и опухли. Она оттолкнула от себя мужчину, оставив на его одежде следы крови. – Селина!
— Он взял. И теперь заберет меня.
— Взял… – глухо повторил Ян, разглядывая ее тело. Как и каждый, эта шлюха заплатила самым дорогим. Кто-то вырезал родинку с ее груди, и этим кем-то была сама Селина. Из глубокой раны сочилась кровь; прижимая к ней пальцы, она перепачкала и их; от этой потери крови у шлюхи сильно болела голова, и глаза были, как пьяные. – Принц взял…
Ян заглянул за парапет и увидел, как неровно срезанная кожа медленно плывет по воде. А затем начинает тонуть, оставляя за собой кровавые круги.
— Зачем? – ошарашено спросил Гамсун.
— Это все, что было. Теперь он заберет. В страну Вялых Багетов.
— Без мужчин?
— Да. Без этой…
— Откуда ты…
— Узнала?
— Да! Да! Откуда ты узнала о нем!?
— Что-то началось, Ян… разве ты не слышишь этого по ночам?
— Слышу, – признался он. Что-то действительно давно началось, но он не мог понять, что именно. Уже почти год. Это длится уже почти год. Старые кошмары вновь начали ныть под ребрами, под сердцем. Это длится уже почти год. С тех пор, как Алиса забеременела от неизвестного. – Чего хочет Принц?
— Дать нам желаемое, конечно, – улыбнулась Селина, – Ваезжердек милостив.
— Откуда ты узнала о нем?
— Сара. Цветочница. Ян?
— Да…
— Он идет. Оставь меня. Оставь!
Селина отпихнула Гамсуна и засунула пальцы в раны. Свет маяка сверкнул по заячьей губе Яна и окровавленной ране шлюхи. На секунду мир замер, а затем свет померк. Звезды исчезли, и только потом стало ясно, что нечто огромное закрыло собой небо. Ян прикрыл глаза ладонью, чтобы не видеть огромный шлейф темноты, который укутал собой все. Глубоко вобрав воздух, он лишь ощутил запах разложения, смирны, нечистот и ладана; а затем… смело посмотрев на Принца, увидел, как на темном шлейфе тут и там моргают большие белесые глаза, испуская свет. Похожий на свет старого маяка, он пронзил Яна и пронзил Селину. Девушка вскрикнула, а потом ощутила, как что-то холодное коснулось отверстой раны на ее груди. Длинные ногти отогнули край кожи, и она закричала, разглядев белесые пальцы Принца; разглядев, что его тонкая рука, изгнившая в запястье, заползла под серую кожу, и скрылась глубоко внутри ранения; как вздыбилось плечо, а затем она ощутила, что рука движется по ее шее – прямо по красной шее! – под кожей, а затем ногти начали изучать гортань и… Ян увидел пальцы, окровавлено проклюнувшиеся сквозь открытый рот Селины.
Он попытался что-то сказать, но Принц приказал ему молчать. Все было точно так же, как той ночью, в комнате. Гулко бьется сердце, и глаза не могут закрыться, продолжают наблюдать.
Принц прижал уже мертвое тело шлюхи к себе, а затем взметнулся в небо, оставляя за собой шлейф черно-гнилых мышц, покрытых серым прахом; и все глаза, лишенные глазниц и век, смотрели с усмешкой на Яна Гамсуна, в ужасе кусающего свой язык. Взор множества этих глаз, усеявших шлейф, напомнил ему холодно-жестокий свет маяка.
Теперь он понял, почему люди решили его ослепить.
Полутьма
В полутьме увиденного реальности уже не существовало. Яну казалось, что он спит у каменного парапета, но меж тем он не спал и видел себя со стороны. Он слышал, как в старой камере старика Акибота льнет к мертвой матери какой-то другой Ян Гамсун; он видел, как этого Яна Гамсуна выращивают черно-черствым. А еще – мальчика, пьяно прильнувшего к каменной ограде. Мальчик хочет смерти, ведь его вырастили черно-черствым.
Ян, лежа под мертвым взглядом маяка, вспоминает, как отдал Принцу все свое прошлое и сказал, что больше никогда не наденет женское платье и не будет обслуживать мужчин за деньги. Где-то на далекой улице, вне черты Ваезжердека цветочницы Сара избрала такую же участь… она была шлюхой. Когда-то. Она отдала Принцу все, что у нее было.
Ян Гамсун считал себя мертвым. Только мертвые видят так твердо, так широко открытыми глазами видят самих себя. Без всякого отвращения он смотрит на это прошлое, которое сошло с него будто старая кожа. Он лежит под разбитой светом маяка… и слышит, как шумит своей плотью внутри города Принц. И даже не Принц, а сам город, сам Ваезжердек, принявший его форму и презирающий все живое. Ян вспомнил, как тонул в своих снах; как темный прилив уносил его в яму коллектора. Нащупав внутри кармана бронзовый ключ с большой головой, он больше не думал, вырезана ли на ее бронзовом лице заячья губа. Кажется, она там имелась. Ян посмотрел на нее без всякого страха; и ему показалось, что он смотрит в зеркало… сразу вспомнилось, что только однажды он видел свое отражение. Тогда он подносил бритву к шее и хотел, чтобы шеи не стало. Это было в тот день, когда Акибот впервые подложил своего «сына» под какого-то моряка. Это было давно. Давно. Ночь. Явь. Туман. Полутьма…
…Яну кажется, что он ослеп, слишком уж долго смотрел в Принца. Но через какое-то время зрение вернулось, и он вновь увидел темноту Ваезжердека. Город полностью умер. Теперь он даже не притворялся умершим, а был совершенно мертв, и только Ян что-то ощущал. В затылок смотрела луна. Она выхватывала куски бледного города, застывшего и сонного из темноты. И было ясно, что город – лежит меж двух рядов ребер. Проституция, пришедшая в Ваезжердек раньше Бога, глубоко пустила свои корни, и последний оплот спасения был разбит тридцать лет назад. Ян Гамсун помнил яркий свет маяка. Акибот выхватил ребенка из глубины ниши, оторвал от умершей матери, и вынес на свет. А потом маяк разбили. И кукольник начал наряжать «сына» в платье его умершей матери…
…он давно сумасшедший.
…все давно сумасшедшие.
Множество мертвецов на улицах Ваезжердека притворялись куклами старины Акибота, превращая улицу – в сцену. Ян Гамсун не мог понять, что по сценарию должно произойти дальше.
Пьеса.
Чтобы убедиться в этой мысли, он резко повернул голову и посмотрел на луну. И действительно: серп пронзил горло Белинды, и та, как мечтала, повисла на невидимых нитях. Обнаженный труп висел в воздухе и излучал свет, а острый месяц втыкался ей в шею и проходил эту шею насквозь, выходя с другой стороны, и извлекая светящуюся кровь.
Ян Гамсун знал, что времени осталось мало. Эта вздернутая Белинда осталась последним источником света Ваезжердека; когда кровь вытечет, сцена погрузится во мрак. Размытая концовка не устраивала Яна Гамсуна.
Он в последний раз посмотрел, как густая, похожая на жир, сверкающая кровь течет по голым ногам шлюхи, собирается на ее пятках, набухает (ноги едва раскачиваются на ветру) и капает в море. Там на пару мгновений появляются радужные кольца, а затем море вновь становится мертво-черным.
«Что отдала она?»
«Все отдали все…»
Ян подумал, что не в силах идти, и всю кровь Белинды проведет лежа у каменного парапета. Там, где, напившись, хотел завершить свою жизнь. Но затем вновь сжал пальцы на бронзовом ключе. Да, на бронзовой голове в действительности была заячья губа, и чтобы двигаться дальше, Ян ударился лбом о сонм своих страшных кошмаров.
Он слышал, как что-то хохочет, и думал, что это ворчит кровью перерубленная шея Белинды.
Он слышал крики маленького Яна Гамсуна в каменной тюрьме Акибота.
Он слышал, как многие мертвые в теле Принца ворочаются.
…как гаснет свет.
И тогда он поднес ключ к губам и поцеловал бронзовую голову в заячью губу, испытывая на себе все то, за что платили любили экзотики…
…а потом плоть Ваезжердека пошла ходуном. И воды внутри нее обратились вспять.
Полусвет
…было неудивительно, что бронзовый ключ отпер решетку коллектора. Ведь Яну снилось, как темная сила проталкивает его сквозь ее квадраты. Он ступил в полную темноту, и холодная вода коснулась его паха.
Ему виделось, как едва светящиеся тела умерших выступает из старой кирпичной кладки. В толстые щели высовывали пальцы, и пытались ухватить воздух. Ссохшаяся рука с тонким обручальным кольцом коснулась плеча Яна Гамсуна, и тот обломил ей запястье. Крепко сжав эту кисть, он ее едва пульсирующей светом освещал себе путь.
Вода дремала спокойно, хотя он ощущал, что и она – мертвая; мешает ему пройти, тратит его время.
Старая шахта уходила все глубже и глубже: отломанная рука выхватывала разные слои кирпича, и Ян воочию увидел, как бордели в Ваезжердеке строились один поверх другого, как один возводился прямо на трупе предыдущего, и так бесчисленное множество.
Он не знал, многие ли бывали здесь.
Вероятно, полноватая цветочница. Ян видел ее два раза в жизни, и ему трудно было представить, что и она прошла через подобное. Зловонный поток достиг кадыка Яна Гамсуна, и уже скоро заячья губа цепляла собой соленые воды древнего коллектора. Едва придерживаясь стены, он уже не ощущал под пальцами кирпича; в почти полной темноте под его рукой разверзлось немыслимое: он знал, что это и есть истина улицы. Тела, которые срослись, скользкая церковная одежда, не истлевшая лишь оттого, что Ваезжердек хотел, чтобы она существовала.
Он подумал о бумажном ключе Акибота и не нашел ответа.
Спустившись вниз по скользким ступеням, «господин Гамсун» вспомнил, как Акибот силой заставил его обслужить двух военных, и эта ярость наполнила его силами. Там, ниже этих ступеней, ничего уже не было, и приходилось идти прямо по шлейфу Принца. Черные мышечные ткани сокращались, тяжелое дыхание Яна разрывало воздух; он старался лишь не наступать в окровавленные и разверстые, как раны, глаза на шевелящемся покрове города…
…сны разбивались вдребезги.
…и казались, что больше никогда не будет снов.
…что после такого не выходят наружу и не живут.
…не живут.
…и не стоит.
Ян знал, что Селина где-то здесь. И все другие, кто отдал себя Принцу. Они бьются в этих осклизлых стенах и ищут ту замочную скважину, к которой подойдет волшебный ключ. Но скважин нет. Вездесущие дыры проделаны мертвыми пальцами тех, кто пытался выбраться из тюрьмы города. Замочные скважины видны в каждой дыре тому, кто играет по немыслимым правилам Принца.
Гамсун уже даже не знал, а существует ли Принц. Не есть ли он – видения подсознания. Что-то, свернувшее свой шлейф внутри каждого черепа, и многочисленными глазами наблюдающий за каждым движением мысли. За тем, как беспорядочно и беспардонно люди ищут замочные скважины и засовывают в них, найдя, пальцы, раздирая кожу до крови.
Ничего не существует, – понял Ян, кроме того сердца, что сейчас билось в тюрьме Акибота. И игра по правилам – двигаться вперед.
Наконец, он увидел впереди мертвый свет. Он тускло пробивался откуда-то сверху, и сейчас Ян смотрел на него будто бы из глубины колодца. Там, наверху, что-то двигалось в лучах этого света, и оно звало к себе смертного по скользкой винтовой лестницы. Когда-то она была выстроенная внутри круга несущих стен, но сейчас, в этом небытии, произрастала из шлейфа Принца и была лишь шлейфов Принца, принявшим форму ступеней винтовой лестницы.
Ян Гамсун откинул сморщенную светящуюся руку и начал подъем. Ступени скрипели под его ногами и проминались. Кости священников и солдат лопались, и оставался лишь их сросшиеся друг с другом черные мышцы да глаза. Трескались и кричали мертвые со всех сторон. Со ступеней вниз потекла из шлейфа кровь, и быстро начала заполнять собой бездну. Ян обернулся и увидел, что черно-красная жижа поднимает вверх останки и остатки перезревших трупов; и тогда он ускорил шаг. И чем быстрее он двигался, тем больше ломал костей и рвал сухожилий – тем быстрее поднималась кровь, а там, наверху, полыхал серп луны, воткнутый в горло умершей шлюхи.
Этот серп ярко освещал сквозь разбитую крышу верхний ярус умершего маяка. Бледный Принц сидел на разбитой лампе, и полог его мантии воссоздавал тридцать лет назад разрушенные ступени. Как только Ян Гамсун взошел к луне, Принц сбросил этот плащ, и тот накрыл собой выгребную яму, наполненную кровью. И теперь пути назад не было.
Бьется множество мертвых изнутри бездны, пытаясь разорвать шлейф.
Капает из Белинды последняя кровь.
На вершине маяка Ян смотрит в мутные глаза Принца города.
Явь идет трещинами.
Пробуждение
Никогда Ян Гамсун не видел маяк вблизи. Это кажется похожим на страшное разочарование – раскуроченный корпус, обвалившиеся ступени и погасшая лампа. Будто впустить в себя человека и испытать глубокую боль от этого.
Ян нашел лишь разбитые стекла иллюзий на вершине маяка.
Ржавая корона лезвиями вниз входила в череп Принца и теперь казалась лишь венцом на его пустой лысине. И только на старом пальце его все еще находились признаки жизни. Ян увидел старое обручальное кольцо.
— Она просила, – призрак поймал этот взгляд и тоже поглядел на кольцо, – чтобы я показал ей перед свадьбой, будто являюсь мужчиной, и в знак этого посетил Ваезжердек. Но она не дождалась.
— Она ждет?
— Призрачно и костно.
— Но разве ты существуешь?
— А разве существуешь ты?
— Не думаю.
— А я думаю, что, вполне возможно.
— Что ты? – тихо спросил Ян Гамсун.
— А что ты хочешь увидеть?
— Не знаю. Ты исполняешь желание города?
— Нет. Они слишком много чего хотят. Но ничего не хотят на самом деле. Они те, кто посылают своих возлюбленных в могилу, чтобы проверить свои чувства. Я не могу исполнить их желания, лишь забрать их жизни. А чего хочешь ты, Ян Гамсун?
— Я не знаю.
— Но ты должен решить.
— Тогда…
Призрак внимательно изучал лицо человека. А Ян с ужасом заметил, что у призрака изуродован череп, будто ему ударили по зубам твердым предметом, и на черепе осталась вмятина. Или это было врожденное уродство, такое же, как у самого Яна, как у бронзового ключа с большой головой. И это было вероятнее всего.
— Я хочу… – начал он.
— Славы?
— Нет. Я хочу…
— Власти?
— Нет. Я хочу…
— Чего же?
— Чтобы маяк снова работал. Когда я открыл глаза, я видел, как он светит и кружится.
— Чтобы маяк работал?
— Чтобы этот старый проклятый маяк вновь начал работать, да! – выкрикнул Ян, и рванул вперед, чтобы заставить дух Ваезжердека выполнить свое обещание. И призрак тоже метнулся ему навстречу, будто это вовсе был и не призрак, а отражение, и Ян Гамсун ощутил нечто подобное, как если бы он ударился лбом о зеркало. В глазах потемнело и острый осколок воткнулся в ладонь.
Все померкло.
Коснувшись руки, он ощутил, что большая кость ушла ему глубоко под кожу, и сейчас из руки течет кровь. Осознав это, Ян понял, что вовсе не спит, но находиться в полной темноте. Такую темноту трудно осознать или представить. Лишь слегка впереди мерещился ореол стены, и тот поблескивал в этой темноте.
Старый Акибот так и не смог смириться с тем, что его Алиса беременна.
И поэтому Ян ощутил под собой ее мертвое тело и мертвое тело ее возлюбленного, которых старик замуровал внутри своей комнаты. С тех пор ему слышались их стоны и просьбу о помощи. А затем он будто бы забыл (и взаправду забыл), что натворил. Как когда-то таким же образом забыл про убийство жены. От нее осталась лишь одежда и маленький сын. Она хотела уехать. Акибот же не мог этого позволить.
Все повторилось.
И сейчас второй раз за жизнь Ян Гамсун оказался в этой темноте. Он понял, что его мать на поздних сроках хотела покинуть Ваезжердек, но у нее ничего не получилось. Родившись здесь, он хватался за ее мертвое тело. А потом Акибот вынул его… ощущая под ногами уже ссохшиеся тела, Ян не знал кому они принадлежат, не мог разобрать в этой темноте, кто является его матерью, кто является Алисой, а кто тем мужчиной, которого кукольник так же приговорил к смерти.
Нужно играть по правилам.
Где-то за тонкой кирпичной стеной старик Акибот пытался разгадать загадку бумажного ключа.
Ломал голову над таинственной дверью, источающей шепоту и крики.
Пусть дверь уже давно молчит, старик спятил и продолжает слышать вопли Алисы.
В полной темноте, дочь старика потеряла ребенка.
Ослепла.
Кусала себе фаланги.
Умирала.
И теперь Ян Гамсун ощущал сухие кости этих мертвых под своими ногами. И слышал, как тяжело выдыхает Акибот за стеной сигаретный дым. Даже слышал запах этого табака; слышал запах дома, в котором прожил всю жизнь.
Нужно играть по правилам.
…Ян уже не мог вспомнить, как и при каких обстоятельствах «нужно играть по правилам». Он лишь хотел увидеть, исполнил ли Принц его желание, горит ли вновь маяк, как горел тридцать лет назад. И поэтому он рванул вперед, ударил плечом кирпичную перегородку; раз-другой, и услышал, как кирпичи двигаются в своих ложах, как встревожился и что-то зашептал старик Акибот по другую сторону; ударил вновь, впустил вновь свет, и еще, уже разбирая, что кукольник шепчет молитву; ударил, ослеп от яркого света маяка, круг за кругом проникающего внутрь мансарды.
— Ян? – смущенно спросил старый сутенер. Перед глазами всплыла русалка с членом якорем. И женские платья, которые Акибот заставлял Гамсуна надевать на себя, потому как подобная экзотика высоко ценилась в Ваезжердеке. И от этой тошноты, Ян воткнул в горло своему отцу окровавленную кость Принца. Услышал, как шумит в распоротом горле кровь. Старик вцепился в стеллаж, перевернул его, и многочисленные куклы с лицом Алисы с грохотом упали на пол. На лестнице послышались шаги.
Ян встретил там голого моряка и двух осиротевших дочерей Белинды. У одной из них по тонким ногам струилась кровь. И по паху моряка струилась эта детская кровь. Ян оттолкнул их, кубарем скатился по лестнице, ощущая, как его тошнит, и, вырвавшись на улицы, вытошнил из себя Ваезжердек. Весь этот город вышел из него кроваво и болезненно, разрывая и садня горло.
Рассвет
Кажется моряк вернулся к своим утехам. Сегодня ночью он оплатил услугу двух дочерей Белинды. И Ян считал, что данной оплаты вполне хватит на лодку, которую он одолжил у этого эротомана.
Яркий свет маяка выхватывал костяной берег Ваезжердека, но Ян уже был далеко. Обернувшись, он видел, как покрытый туманом, город исчезает вдали. А где-то впереди разбивал плавником море белый дельфин. И когда Ян Гамсун подплыл к нему ближе, то увидел, как дрейфует среди волн обрывок кожи, срезанный Селиной со своей груди. Она всегда верила, что ее кожа – карта; а большая пунцовая родинка – заповедная страна Вялого Багета.
Ян Гамсун даже представить себе не мог, что это за страна. Но ему показалось, что ее берега – в разы лучше холодных берегов Ваезжердека. Подняв глаза вверх, он силился разглядеть на вершине маяка Принца, то не видел ничего, кроме вращающегося по кругу яркого луча небесно-лазоревого цвета.
3. Вама Марга
Иногда ему снилось, что Якоб плывет в белоснежной пустоте. Иногда он забывал, кто такой Якоб. Под остановившимися часами время текло незаметно; Якоб плывет в клубах белоснежной мглы, Якоб зарыт в чужую могилу, в дремлющем океане снов. В доме с множеством зеркал, зеркала всегда были порталами в сумрачные и потусторонние пространства, Якоб всегда любил зеркала, тихие потусторонние пространства, Якоб плыл в пустоте…
…Джекобу тоже казалось, что он плывет в пустоте под тихими часами. Наконец, Якоб исчез, как исчезают воспоминания о прочитанных книгах, чувства иерофании и единения, в тумане зеркал тень умершего сына такая же забытая, как несказанные слова. Джекоб прячется от них в кабаках, в водоворотах суеты, городах, городах и новых городах, провинциях, перебирает и не может найти. Слизистый след шабаша и черной мессы, двуглавого козла, культа человеческой жертвы преследовал его, на старых полянах он находил фосфоресцирующие круги ведьм, в книгах Юнга откровения и минутную остановку. Время имело свойство растягиваться или сужать свои круги. Настоящее, прошлое и будущее существовало в единой точке. Джекоб был телеграммой, которую никто не прочтет, каким-то важным посланием для мира, затерявшимся в толчеи.
С полудня и дальше он слушал странные истории в местном игорном клубе.
К полудню я ощутил жуткую слабость и вернулся в комнату. Мне нравилось ее одиночество и наполненность пустотой. Из окна можно было видеть горнолыжный склон и знакомые пестрые куртки. Я тяготился своей странной влюбленностью, находил ее гипертрофированной и экзальтированной, я читал Вальтера Скотта и мечтал о будущем, в пространстве простыней растягивал руки и часто представлял объятья, безымянные пальцы, изучающие мою кожу. Я не находил причин быть отличным от сверстников, но не находился среди них, и даже не был изгоем, я был клоками тумана с потаенными фантазиями о ненаписанных книгах, о подгорном короле, о комнатах, которые освещены лишь мистическими камнями, кругах фей, заоблачных танцах, я был мальчиком, которого нет; мальчиком, которым нельзя быть; мальчик, который будет разбит. Выглядывая в окно, я вижу черные тучи которые, как псы, и все это стоило бы назвать причиной страшных следствий, я продолжал читать ответы врача Гумберту, не связывая Этого Гумберта и адресата писем, подобное было мне чуждо, я погружался в еще одну странную реальность, наполненную кровавым сумбуром, и находил этот сумбур приятным моим нервам. Таинственный Вальтер Скот, горы любви моего будущего, заснеженные горные склоны, покрытые эдельвейсами, сорванные цветы моего ближайшего будущего.
Я прогуливался по городу, изучал местные лавки, вслушивался в печаль тихого ветра.
В 17:29 Джекоб Блём зашел в местный костел помолиться распятому Богу.
В 17:34 я зашел в местный костел согреть руки.
Моя память не дает четкой картины произошедшего, Джекоб продолжает существовать для меня, как прямая, идущая от самой точки знакомства через всю мою жизнь; Джекоб – категория надежды, толстая вена, исполненная кровью; Джекоб – мой безначальный символ рыцаря и кладбище павших безумцев. Он есть для меня сейчас, как был тогда, будто мой единственный друг. Иногда, когда густая листва засыпает Москву, он становится моим единственным собеседником. Джекоб – тот, с кем я придумал огромное количество воображаемых сценок; он сформулировал мое представление о мужской красоте и мужской душе; он стал иллюстрацией к «Дон Кихоту» Сервантеса и навсегда привязал эту книгу к линии моей судьбы
— Каждую секунду умирает медведь, а всем все равно. Или: каждая секунда – это умерший медведь? – сказал он. Мистер Блём плутал в темноте разбитого зеркала: когда я пью кофе, это я его пью, или он пьет меня?
Когда я ответил ему, и так, и так, он начал улыбаться, что хоть кто-то здесь знает немецкий.
Джекоб давно понял, что не у всех людей есть душа. В ком-то она зарождается, а в ком-то нет. Обычное холодный нож пророчеств рассказывает лишь о тех, в ком душа есть, но иногда ему виделись чудовища, бороздящие пустые полости мертворожденных; некоторые женщины рожают одухотворенные выкидыши, некоторые мертвые женщины рожают живых детей, причина не всегда ведет к следствию. Он ощутил, как болит колено, что стоять на коленях перед распятием – вызывает в нем боль. Подниматься было стыдно. Он продолжал стоять, поднимая вверх голову. Сквозь лицо Христа плыла огромная рыба-печаль, рыба-зло осквернила его красивые ноги, рыба-рана выпустила потомство вдоль его ребер. Иногда Джекоб доходил до слез, наблюдая натуралистичные образы Спасителя. Он ненавидел Хольбайна всей слабой злобой своего мягкого сердечника. Некоторые ритмы непозволительны для Вселенной, Хольбайн был очень слаб, если позволил себе нарушить эту заповедь. Рыба-хруст плыла внутри его колена, иногда боль становилась жестокой, иногда почти спала, она и действительно была как рыба, склонная к миграции, нересту и смерти. Джекоб чувствовал, как боль плодится внутри его тела, ее становилось все больше и больше.
Я помню его заснеженные плечи, его тело было спланировано под огромную душу, мне редко доводилось видеть столь обширных людей. Моих рук бы не хватило обнять его грудную клетку. Он был типичным бюргером в клетчатой рубахе. Вероятно, ему не приходилось выбирать себе одежду, Джекоб одевался в то, что подходило его размеру. Еще, я помню, он обладал широкими живыми усами и бакенбардами, похожими на разодранную тушу зайца или кошки, кровавый румянец наливал их карминно-черным цветом. Я помню его непослушные волосы. И его слова – каждую секунду умирает медведь.
Когда Джекоб поднялся с колен, он испытал стыд перед изможденным ликом Христа. Мучение колена было смехотворным перед его фигурой.
Я помню его заснеженную шапку.
Джекоб улыбался мне, и его зубы были больны.
В 17:39 душу мистера Блёма разорвал заряд, если, конечно, дружбу можно сравнить с молнией, поражающей без всяких на то причин. Ему показалось, что это Якоб. Потом он забыл, кто такой Якоб. В 17:40 Джекоб пожал руку своему новому другу, одному из тех, кому от рождения повезло иметь душу, и в 17:40:34 предложил угостить его кофе, шнапсом или чем-то другим, в 17:41:02 после паузы сказал, что можно просто прогуляться и не нужно размышлять и убивать медведей.
В 17:42 наши грудные клетки вновь вдыхали ветер.
Пока мы шли, я узнал одну историю; одну из тех, которые приходятся мне по нраву, приходились по нраву уже тогда: ее звали Саломея в «Красной Мельнице», и все мужчины теряли слюну, видя выбеленные до смерти ноги. Бледные, неестественные. Макабртанц, который начался задолго до этого дня, когда высокопоставленному эротоману рассекло голову молнией, находит свое продолжение и теперь, как сказал Джекоб Блём. Там, где Саломея танцует, начинается смерть. В Чикаго мужчины с толстыми щеками и такими же кошельками впускали пулю в складки своего подбородка; плакали до гибели на Волге; падали телами в Рейн, а Саломея ускользала тенью. Трудно понять, как она относилась к их смертям, но девчонки из «Красной Мельницы» всегда говорили, что шея танцовщицы содрогается, будто она глотает, когда гибнет мужчина, содрогается, будто проглатывает; челюсти начинают двигаться, зубы перемалывают, Саломея дергается в танце все более и более жарко и хохочет, когда кто-то в зале кончает с собой. Они всегда умирали, так было с самого начала, и поэтому она назвалась Саломеей. Женщина, у которой вдоль позвоночника нарисована цепь. Ускользнуло, что мужская рука, выцарапавшая эту цепь, принадлежала тому, кто умер первым. «…подумать только, Гумберт, как много отцов, как много братьев и сыновей, видят в строении их скелета совсем не дочерей, сестер и матерей, а видят любовниц? … сколько было сломлено, сколько захоронено под дикой геранью таких же, как твоя Ло, а сколько похоронило в гневе таких, как ты, Гумберт, и сколько до сих пор не хоронили и не похоронены, но хранят в себе темноты и тикают в темноте, как часовая бомба?» Ее выкупил мистер Бомонд, именно он демонстрировал Саломею в «Расколотом Льве», именно он хранил женское тело в бархатном футляре, расчехляя его для сцены. Как он боялся, что она лишится девичества… трудно представить, почему этот сморщенный демон привез свою любовницу в Лондон, чтобы она танцевала для таких же прокуренных убийц, как он сам. «Саломея танцует только для меня», – говорил он, а затем при всех гостях высоко задирал ее юбку, раздвигал ноги, чтобы показать, что ни для кого и никогда Саломея не танцевала вульгарно: ее красное девство пульсировало.
Мистер Бомонд собирал ценности; он поедал старинные часы, старинные предания и монеты. Там, в его глубине жил меч Калибурн и фрески мальтийских капелл. Обожающий макабртанц во всех проявлениях, Он, в темноте и тишине вдали от мира смертных называемый Голодом, заставлял Саломею танцевать сквозь бэдтрипы и жуткий туберкулез; лондонский туман заразил Саломею унынием; она кричала в футляре, она танцевала для мертвых на вечеринках мистера Бомонда; в моргах и на гадальных столах в салоне на Альтертод-штрассе, но никому и никогда не танцевала глубоко и взаимно, даже своему хозяину.
Ее ненависть к мужчинам была столь губительна, что тихие графства Англии сотряслись от густого падежа мужчин. Августовская жара и августовские мухи облепили собой тела ее жертв; мальчики, усердно теребящие кулаком над «мисс-Плейбой 1975» выблевывали жизнь. А Саломея продолжала танцевать только для мистера Бомонд, покуда…
«…каждая Ло завершается; Ло не может быть вечно той, какой ты творишь ее, какой ты заставляешь рассудок наблюдать ее сквозь нее-истинную; она завершается, таит, и ты не можешь удержать ее; весь твой опыт не значит ничего, когда женщина, даже подсознательно, мечтает уйти. Уже в этот момент, когда ее нервы напряжены этой бессознательностью, ты уже не властен над ней, тебя уже не существует, и твоей Ло не существует тоже; в этот же миг она становится Долорес, и эта Долорес неведома тебе, не принадлежит тебе и больше никогда не будет принадлежать. Страшно не уловить этого в воздухе раньше, чем все станет реальным….
…здесь и сейчас советую тебе сказать «хватит», и прекратить это безумие, чтобы безумие не распространялось дальше. Скажи себе «нет», или обреки свою болезнь существовать вечно, научи внутренние травмы передаваться воздушно-капельным путем и подари миру ужас, который ничем не уничтожить, подари ему и каждому живущему в нем страх… перед самим собой, перед собственными потаенными мыслями; научи отцов желать своих дочерей, научи отцов не бояться желать своих дочерей, научи отцов овладевать собственными дочерьми, если считаешь это своей дорогой. Великое зло пробуждено в минуту, когда я пишу это тебе, мой возлюбленный пациент, и ты уже не в силах спрятать его обратно. В минуту, когда я рассказал тебе о такой дороге, ты выберешь именно ее, а если бы я не сказал? Никто не знает, но теперь ты двинешься именно так, и выбора больше нет, а значит, виновным окажусь я. Ты двинешься, потому что подумаешь, будто виновен я, будто не ты виновен и будто не ты первый, комплекс Гумберта начнет отныне плодиться, как гнилой плод порождает в себе зло; семена ярости посеяны в Лолиту, и теперь они взойдут урожаем кошмара по всей земле. Бойся за тех благочестивых отцов, кто вплетал до этой минуты ленты в косы своих дочерей, теперь их блудливый взгляд цепляется за крохотные родинки на их шеях. По ночам родинки начинают звать. Зов будет услышан. Все предрешено, Гумберт, с минуты, как ты рассказал мне о себе, с тех пор как о тебе узнало человечество… он спрашивает «можно Гумберту, но почему нельзя мне?» и отвечаешь «можно каждому!», даже если не хочешь отвечать подобное»
Саломея ушла, – закончил свою историю Джекоб. «Ушла, скрылась здесь, в глубине тихого кладбища. Так мне сказали. В кабаках всегда рассказывают истину!»
Они никогда не уходят. Гумберт слышит скрип несмазанных колес ее велосипеда. Иногда она катается по дому и пытается что-то сказать. Иногда Гумберт видит их в темноте. Там, на улице, за оградой из суеверий. Маленькую Ло и своего отца. Малиновое от ожогов тело в одежде крохотной девочки, голенькая Долорес, волосы уже выпали, рана на черепе страшна и вульгарна, позвоночник вышел наружу, как нежный младенческий хрящ, в ореоле вен и детского непонимания. Эта пара ходит вокруг дома. Голенькая Ло и обугленный до черноты отец. Сожженная рука трясет погремушку, и Гумберт просыпается от гула литавр, от рыбы-гремушки детских воспоминаний: отец, как старая змея, в сером кресле, кожа и кресло сливаются в одно, он призывает к себе звоном погремушки. Сожженный мужчина и голая Ло плывут сквозь сумрак и сквозь туман, недосягаемые и чудовищные. Иногда они стучатся в двери. Поэтому Гумберт сдает свой дом чужакам. Ангельские крылья медленно плавятся в темном подвале. Самосожжение в приступе религиозного экстаза на глазах девятилетнего мальчика. Кожа отслаивается от тела, как кипа бумаг, все сгорает в отцовском хохоте. Такого не бывает. Такое бывает с каждым, в тихом городе, укушенном религиозной змеей. «Мы должны это сделать», – говорил отец и подзывал к себе Гумберта рыбой-трещоткой, странно-сизая печаль укутывает эти воспоминания. Что-то страшное течет над городом. Глупцы думают, что это небо. Черное что-то обволакивает собой небосвод. От темноты невозможно дышать…
4. Карминовые гимны
Сердце эсквайра было фригидно, и потому поведение его целомудренно. Труды не оставили за собой ничего, труды не преследовали любовь и не гнались за богом, но хорошо коротали дни. С тех пор, как она растолстела, и он все чаще проводит дни в своем кресле, солнце, кажется, ярче и живее окрашивает деревянную веранду, и пес Джотто, кажется, более рад жизни и выглядит встревоженным деревенскими звуками. Солнце не нравится псу по имени Джотто, гораздо приятнее ему звуки ночных насекомых, насекомые вьются вокруг ламп, а еще они умеют проникать в стекло, что никогда не удавалось Джотто, тысячелапые краснотелки бегали быстрее, чем Джотто, и этим нравились ему; он гнался за каждой, носом откидывал камни, где они, так же, как, собственно, Джотто прятали полотно своей жизни от солнца, он гнался за ними, когда откидывал камень и находил под ним тысячелапую краснотелку… где-то там, в гуще неизвестной ему жизни, то есть – в лесу, должен был находиться их многожих храм, ведь все они устремлялись в лес, куда нельзя было устремляться Джотто. Этих насекомых боялась хозяйка, а эсквайр просто не любил, и эсквайр не любил толстеющую хозяйку Джотто, но относился к ней лучше, чем раньше… раньше – это время до-Джотто, когда Она была моложе и как бы существовала, чтобы привлекать эсквайра. С тех пор, как она постарела, у него появились официальные возможности обращать на нее менее пристальное внимание. Джотто не любит солнце, но ночь, когда солнца нет, иногда наполняется звуками красных песен, когда хозяева – нарушая официальные возможности эсквайра – в комнате слипаются в одно, образуя тысячелапое краснотело. Джотто не нравится, когда ночь сужается до размера протяжного стона, становится жидкой и теряет понятность, в глубине многоножьего храма красные тела существуют в беспорядке и ползают друг по другу, провоцируя раздражение деревенских псов.
Молодость, потраченная на размышления о старости и превозмогающая возгласы приятелей эсквайра «старости не существует», наконец, закончилась и закончила возгласы, наступила пора притупления физиологических потребностей. Теперь, сидя в фетровой шляпе и фланелевых брюках, он мог наслаждаться исключительно своими желаниями, которые раньше были оттенены именно потребностями, и заглушены нелюбимой женой. Теперь он мог любить свою фетровую шляпу и теплые от солнца фланелевые брюки, и не думать о будущем. Будущего уже не существовало, оно должно было предстать перед ним единственным мигом темноты, оно должно быть встречено театральным возгласом «для смертного лучше – вовсе на свет не рождаться», оно должно быть встречено с гордостью, и в этот миг он будет рад, что не дал никому жизни, но свою – неудачливую и одинокую жизнь – влил очереди в Рафаэля, Джоконду и Джотто; ему бы хотелось, чтобы все завершилось на Джотто, но Джотто уже семь лет и, возможно, темной точке будущего придется прийти на глазах какого-либо Босха или Караваджо. В будущем уже не было хитрости, игр на бирже и слез; а если в будущем и были слезы, то эсквайр может позволить себе их не прятать. Это почти прилично – плакать от страха старости. Он не поворачивается в прошлое, он всегда повернут в него, сфокусирован в одну точку. Бесконечная прямая человеческой истории пройдет сквозь две эти точки – средоточия его взгляда и темноты – чтобы продолжиться в бесконечность, ввинтиться в Джотто-Рафаэля-Джоконду и прочих, навсегда лишить эсквайра его имени и подарить его имя какому-либо новорожденному. Он забудет названия географических координат, заберет с собой списки прочитанных книг и свое увлечение ономастикой; он вновь будет погружен в пенистую мглу, ровно такую же, какая предшествовала его рождению.
Он, как и Джотто, родился весной. Родился, чтобы иметь счастливую и сытую жизнь, крикнул криком первенца, и в четырнадцать похоронил свою мать, чтобы заплакать плачем единственного сына. В шестнадцать он понял, что до шестнадцати – жил в полнейшем самообмане, и поэтому поклялся никогда больше не верить в Иисуса, и никогда больше не пересекать белый штакетник церкви (и ему открылось в семнадцать, что даже отталкивающей его вид церкви все еще не умаляет красоту танцующих на ее территории и в ее тени воробьев, воробьев посреди сочной летней зелени). В двадцать он понял, что до двадцати – жил в полнейшем самообмане, и примкнул к либералам. Либералы казались ему такими же красивыми, как воробьи на церковном участке, красивые руки одного либерала, лежащие на зеленой и сочной поверхности бильярдного стола. В двадцать два он впервые задумался, почему ему так помнятся эти руки, и поэтому начал подыскивать себе жену, и через месяц после того, как ему исполнилось двадцать три, он женился; женился и отрастил усы. Он мог позволить себе выбрать самую лучшую женщину из всех, так как не руководствовался чувствами, но так как он не руководствовался чувствами, то женился на такой же, как и все остальные, но иногда ему говорили, что она у него – самая лучшая. Теперь ему легче было вновь поверить в Иисуса, и объяснить своей хорошей жене, что аскеза – красивый белый штакетник вокруг его тайн – есть великое таинство, подаренное нам евхаристией, и красные песни не гоже петь тем, кто желает их петь. Свадебный месяц в Греции, варвар вновь своими ногами запачкал камни акрополя. Достаточно грубый, он грубость свою делал достоинством; держался гордо, размышлял о смерти, о цианистом калии, о великом искусстве – то есть снова о смерти – о смерти, о темноте, иногда он плакал, и тогда утром был еще более грубым, и свои слезы делал источником достоинства, а достоинство – верной дорогой в северную темноту. Он был сыном того, кто когда-то разрушил Рим. Память его крови рассказывала об одном археологе шестнадцатого века, который полюбил юношу, память его крови обучила эсквайра избегать ошибок, научила торжественной практике этикета, помогла ему нащупать верную дорогу настоящего мужчины – научиться отличать вилку для мяса от вилки для устриц – и эта дорога, конечно, вела его к смерти, но самым красивым путем, сквозь званные ужины, дорогие костюмы, любовь к морепродуктам и солнечным дням на веранде, к фланелевым брюкам и красивой шляпе, любовь к которой могла сравниться только с любовью к античному искусству, только – с Любовью, которую он однажды почувствовал, но предпочел не делать его целью каждого своего движения.
Зеленый – цвет его жизни, ведь всем известно, что зеленый успокаивает глаз. Красный – вынужденной и сдержанной страсти с женой. Красные песни сопровождают физиологию. Но карминовые – пусть и производны, исходит из других труб, раздувают иные меха и надувают паруса совсем других кораблей. Отец показал ему карминовые гимны, гармоничные, как движение ДНК внутри органических руин его жизни; гармоничные и столь же очищенные от лишнего, как ДНК в отрыве от руин его физиологии. Отец часто слушал карминовые гимны после смерти жены. Карминовые гимны помогают мужчинам избежать ложной страсти. Каждое воскресенье белый штакетник церкви, каждое лето – этот загородный дом и карминовые гимны. Мужчинам, которые потеряли своих жен, нужны карминовые гимны. Вдовцам, которые блюдут верность, они просто необходимы. Те, кто уничтожают свою душу искусством – целевая аудитория песнопений. Те, кто познал любовь, должен потушить свою жизнь.
Джотто лишь подозревает о карминовых гимнах, ведь что-то таинственное манит его в лес. Мышцы четырех его лап напряжены, готовые рвануть в сторону многоножьего храма, но каждый раз что-то останавливает их, как обычно и бывает, стоит хоть на секунду задуматься о траектории. Он чувствует всей силой своей интуиции, что этот лес не такой, как другие леса, хотя бы потому, что Джотто никогда не видел других лесов, в этом лесу поют карминовые гимны. Настолько сложные, что сердце пса может остановиться. Карминовые гимны могут остановиться любовь Джотто к своему хозяину. Карминовые гимны могут разрушить все. Там, в лесу, есть странное место, которое поет. Так поет память нашей крови, но память крови Джотто предупреждает его об опасности. Там, в лесу, что-то поет свою вечную песню. Там, в лесу. Джотто не любит этот лес, но хочет в него, стремление к ясности наполняет мускулы светом; там, в лесу, есть что-то, что может подарить Джотто мученическую и героическую смерть, карминовые гимны звучат, чтобы воодушевлять художников, но Джотто не знает, готов ли он принять мученичество, он не знает прелести героической смерти; Джотто вообще не знает о смерти, но предчувствует ее так же сильно, как странное место в этом лесу. А этот лес – он стал источником древесины, из которой сделан дом, все остальные дома этого мира, и древесина, впитавшая в себя карминовые гимны, вынуждает хозяев оголяться и сращиваться в красное страшное месиво. Там, в городской квартире, где жизнь Джотто подчинена квадратам, прямоугольникам, где все – равно удалено от Джотто – и улицы симметричны друг другу, хозяева редко становятся страшными… власть красного гимна ослабевает, но каждое лето вновь наполняет собой хозяйку.
Впервые он услышал их в свое первое лето. Они звучали из тысячелапого тела, прорывались сквозь хитин, аккомпанировали мандибулами. Эти гимны прятались от солнца под камнями, и впервые Джотто перевернул камень и увидел тысячелапую краснотелку из-за желания освободить алую песню из-под гнета тяжелого камня. Тогда он считал, что песни хорошие, но сейчас Джотто считает иначе. Оглядываясь в семь лет на семь лет своей жизни, Джотто понимает, что все эти семь лет не понимал ничего. Но каждый год был соединен с другими этими отрезками времени под названием лето, этим загородным домом, а отрезок времени под названием лето был наполнен карминовыми гимнами, и получалось, что вся жизнь Джотто какими-то таинственным способом была переплетена с этими странными песнопениями.
Хороша и размерена жизнь эсквайра, хороша и размерена жизнь его жены. Они позволяют друг другу молчание, позволяют ничего не делать, и коротать вечность в медлительных увлечениях. Он рассказывает ей про крикет, а она толстеет. В городе им любо наблюдать за прохожими, за одеждой, за пестрыми шляпками дам во время скачек, история кинематографа движется перед ними и куда-то спешит, трудовая биржа клокочет, и утренние газеты о чем-то рассказывают, и многочисленные приятели рассказывают что-то такое незначительное, как утренние газеты. Жизнь их лежит за пределом скандалов, никогда не случалось с ними ничего такого, чему стыдно случаться. Бездетность наградила их второй молодостью, скукой и оставила квартиру свободной от криков и лишних денежных трат. Иногда ему требуется слушать карминовые гимны, чтобы все улеглось, ведь эсквайр не любит сердечных движений. Скоро наступит вновь это время, и он отправится в лес, куда впервые отправился со своим отцом, и вместе они слушали карминовые гимны. По дороге отец впервые рассказал о сексе. О целомудренности и бережности мужа, о стыдливости жены, о том, как нужно двигаться равномерно, отодвигая сухую листву, как не наступить в лужу, как промочить ног, как до конца своих дней выстроить существо таким образом, чтобы к концу жизни оно представляло собой безграничную приличность. Они шли по дорогам, которых нет, и отец говорил, а эсквайр смущался; они отодвигали сухую листву, ветки, и шли, куда не нужно ходить эсквайру и его отцу, но все же – жизнь принуждает выплачивать жертвы и налоги. Нет меньшего зла, чем порядочному мужчине идти по несуществующей дороге слушать карминовые гимны; другое фантазии, хотя и хотелось бы, чтобы физиология перестала поллюциями пачкать ночное белье. Там, на волшебной дороге, мальчик многое понял о жизни. И вскоре он вновь отправится по этой волшебной дороге, и будет испытывать радость от того, что не имеет сына, а значит – нет нужды рассказать никому о сексе. Цель его жизни – остаться чистым – скоро реализует себя в смерти. Все будет хорошо; эсквайру удалось испытание, он отодвигает сухие ветки, и ведет Джотто по волшебной дороге. Он рассказывает своему псу, как прошел много лет назад этой дорогой, он рассказывает Джотто, что карминовые гимны исходят из красных цветов, что растут в центре земли, что волшебные растения гремят в руках белоснежно-мертвенных женщин, там, в середине леса, в руках умерших женщин, что вернулись обратно, чтобы танцуя с красными цветами, танцем и гимном гасить в мужчинах похоть. Джотто не понимает похоти, и не понимает противоречивую терапию возбуждающего танца и гасящих возбуждения цветов; для Джотто – это путешествие, которое оно ощущает последним в своей жизни. Джотто ничего не знает о смерти, и поэтому знает о смерти все. Ему не доводилось видеть мертвых женщин, и потому он не знает, могут ли мертвые женщины танцевать. А эсквайр видел их, спящих в своих гробах, слышал отповедь, эсквайр многое видел и о многом вел беседы; четыре года он разговаривал с Человеком, и вел такие беседы, в которых важнее был процесс и важнее было слышать голос, чем достигать какого-то результата; четыре года эсквайр жил какой-то сердечной жизнью, бесцельной жизнью, в разговорах, которые уничтожают время, но почему-то так важны для души; руки эсквайра делали множество случайных и хаотичных движений – случайно касались Человека, его рук и однажды щеки, гладили его по волосам – и эсквайр постоянно хохотал в его присутствии, постоянно смущался или злился без повода, постоянно в эти четыре года состояние эсквайра меняло положение, и его бросило в понимание оперы, литературы и живописи… но потом, когда усилием воли он закончил все это, его вновь вынесло на пересеченную местность жизни, где нет никакого дела до оперы, литературы и живописи. Джотто бежал немного впереди, потому что обстоятельства, наконец, позволили узнать ему, куда бегут многоножки; а может это эсквайр медлил, удалившись в воспоминание. Он пытался решить, есть ли в нем еще какая-то любовь, или существует уже только память; ему следовало бы довериться сердечному ритму, но он не мог понять, почему сердце бьется так сильно – от любви или от памяти. Отец привел его на поляну, где танцуют мертвые женщины с красными цветами в руках. Красные гимны текут сквозь их бледную кожу, и после отец сказал эсквайру, что эти женщины танцуют, чтобы танцем и гимном напомнить мужчине о супружеской верности, о посмертном воздаянии, о цветах, которые будут лежать на твоем гробу, и которые ты должен заслужить своей быстрой, но достойной жизнью. Мертвые женщины танцуют на поляне. Незачем знать, почему они умерли. Незачем знать, зачем и почему они танцуют. Незачем знать, почему мертвые способны танцевать. Из многоножек их ожерелья, их монисты, их браслеты на запястьях и ногах. Незачем знать. И вот эсквайр говорит Джотто то, что Джотто не может понять. Эсквайр говорит Джотто, что точно уверен, будто любил мужчину. Джотто не может понять, почему в голосе эсквайра что-то нарушилось, почему изменился привычный ритм его дыхания, ведь Джотто мужчина, и эсквайр любит Джотто. Незачем знать. Там просто танцуют мертвые женщины. В самом сердце волшебного леса. А эсквайр любил мужчину. Там, далеко позади, и от этой любви не должно уже ничего остаться… но иногда мертвые танцуют. Иногда они танцуют, и, даже зная, что мертвые лежат спокойным сном, ты все же видишь, как они танцуют. Вспоминаешь их руки, вспоминаешь неловкость своего тела в их присутствии, понимаешь, что помнишь эти четыре года детальнее и глубже, чем всю свою жинзь. Неважно почему. Здесь и далее – Джотто и эсквайру не по пути. Пес не может понять происходящего, и эсквайр просит его возвращаться домой, к толстеющей хозяйке, ему следует быть рядом с ней, ведь сейчас ей нужна поддержка. Хозяйка не вспоминает правду о муже, но эта правда резко вырывается к поверхности, когда он уходит слушать карминовые гимны. В остальном – все хорошо. Радостная и солнечная жизнь продолжается. Жизнь существует и до, и после карминовых затмений. Всего несколько раз в нашей жизни, мертвые танцуют. И Джотто подчиняется, но точно знает, что упущен последний шанс, он никогда больше не сможет узнать о кроваво-красных песнопениях. Джотто знает об этом, но подчиняется силе сыновьей любви. Джотто думает, что это его последнее лето. Джотто остро чувствует, что это его последнее лето, и наступило время подводить итоги. Джотто не смотрит в заплаканное лицо хозяина, потому что хозяин хочет, чтобы Джотто поступал именно так. И поэтому Джотто оставляет эсквайра одного, и возвращается к хозяйке. Здесь и сейчас – самое важное мгновение в жизни этого пса. Он ощутил, что здесь и сейчас тайна мироздания может ему открыться, но уже через секунду это ощущение стало частью прошлого, и Джотто не раскрыл тайны мироздания. Поэтому он возвращается к хозяйке, ему незачем знать всего остального. Джотто никогда больше не будет искать тысячелапых краснотелок под камнями, для этого – время уже упущено.
А эсквайр остается наедине с банальным волшебством мертвого танца. Волшебство, конечно, существует лишь для тех, кому нужен противовес какому-то страшному воспоминанию: свет его глаз, темнота в его голосе, неоправданные слезы, непроизвольные движения. Поэтому на поляне танцуют мертвые женщины. Диадемы многоножек, красных хитин, как рубины. Мертвые пьют вожделение смертных. Неизвестно почему и неважно зачем. И эсквайр теряет всю физиологическую окраску своих фантазий, его прошлое остается абсолютно платоническим, и потому – более острым, все тело эсквайра наполнено чудовищной меланхоличной утратой. Он знает, что цель его жизни реализована. Чувствует, что цель эта осталась далеко позади. Слышит обрывки бесед, ветер приносит запахи. Эсквайр и его память, мертвые с красными цветами, солнечный день.
…он возвращается на теплую от солнца веранду. Джотто смотрит на него подозрительно, но нежно. Наступает теплый вечер, вскоре будет закат, и самое время для ужина. Он решает поговорить со своей женой, ни о чем конкретном, но в такие минуты даже ложь дается ему легче, чем глубокое молчание. Эсквайр стоит у окна и смотрит сквозь него, жизнь преломлена солнечным лучом в оконном стекле, а она сидит на кровати. Ее ждет болезненная ночь со слезами, она слишком привыкла к его молчаливости, чтобы поддержать внезапную беседу. Ей больно от неизвестности, и кажется, что было бы легче в знании. Но эсквайр считает иначе. Он говорит ей, что в такие дни, как сегодня, закат очень красив, переливается охрово, переливается карминовыми бликами, становится почти черным, а затем – вовсе черным – и он говорит ей, что когда закат становится черным, – это называется ночь.