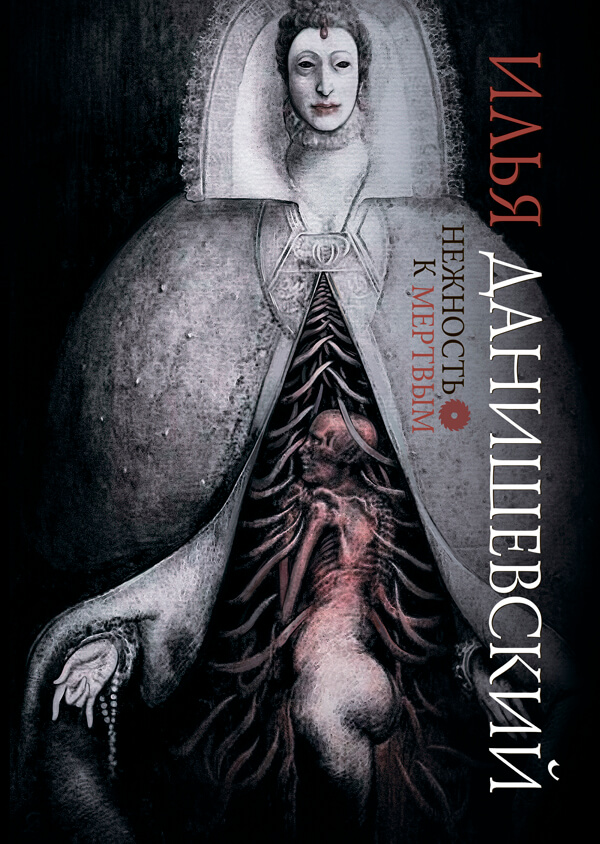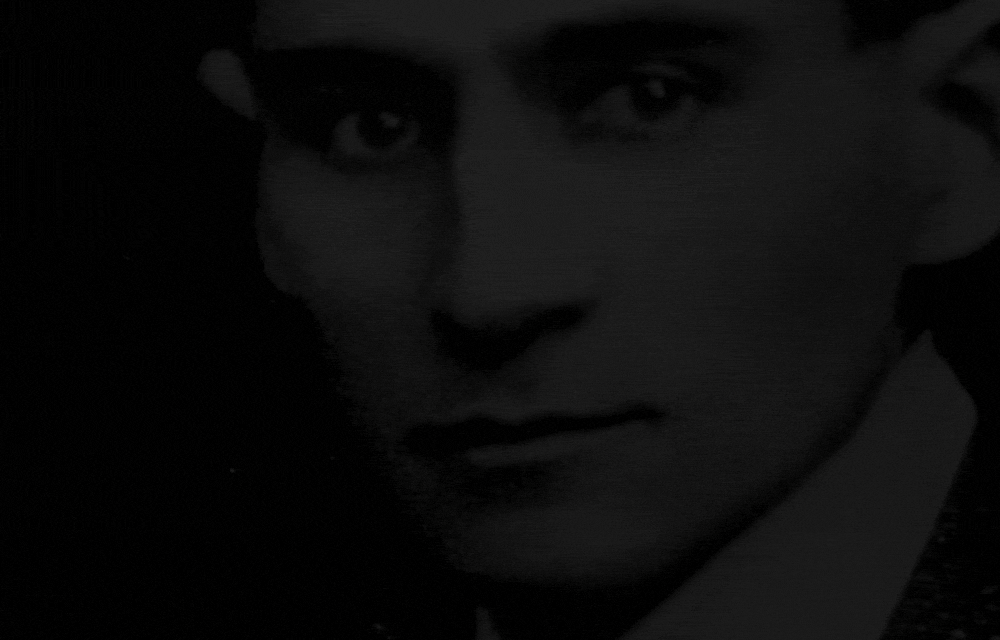Страница:
7. Сатурн аспидных полдней
«А»: она никогда не знала второго отца, – длительное опоздание, разрядившийся телефон, все сползается, как тучи, а вот и тучи, ведь идет этот дождь, сказали «починим завтра», и поэтому фонарь не работает, он упал под поезд, иногда люди действительно случайно падают под поезда, торопливый, все еще заботящейся о красоте, все еще тревожащийся за опоздание, шаг в темноте погасшего глаза, любовь может существовать лишь в коридоре, конец которого светится смерть. Ее первый отец после этого верит в «И цзин», и это «Б», двух точек достаточно, чтобы сквозь них провести прямую.
Остальное оставь импульсам… ее первого любовника звали Франк, и кажется, это Франк был первым любовником ее отца, семь лет мучений сквозь зеркало, Франк был ремиссией, ударом маятника, она вспомнила свое «А», лежа под Франком и вспоминала «А» позднее много раз: папа в траурных линиях морщин, явственнее и четче, как змеи, каждый дождь, перекрестье, а может, мемориал, а больше они не ходили на кладбище, потому что ее «Б» сказал, что перестал верить в Бога, она замкнута в двух точках, они начало и конец, она поняла это, лежа под любовником своего отца в возрасте пятнадцати лет.
Не замечая того, жизнь его неумолимо движется вдоль торса ушедшего. Тезис смерти зачатый вместе с его клетками, был пропущен сквозь пары, плаценту и улицы, наконец проявлен после яркой вспышки поезда; он не мог опознать тело, его не пускали к телу, но он знал, что колеса сверкнули на ярко выбритых щеках; сломанный угол, треугольник сумма углов которого нарушает заповеди.
Я и миндальные комнаты. Я – это мои губы, мои губы на его воспаленных аденоидах. Я и миндальный свет, мрачный желтоватый свет, напоминающий о больницах и детстве, все наше детство всегда представлено в сепии, и потому желтый ассоциируется с печалью, и потому не любят желтых роз, а в моем детстве желтые плакучие розы росли в палисаднике, и значили традицию, упорство моей семью, расширяющей дом во все стороны, это были банальные желтые розы; представляя их в прошлом, пропуская сквозь двойную желтизну (сепия моих воспоминаний) я понимаю, что ничего, кроме этих роз не было, не существовало даже палисадника, и он был условностью, к концу лета печаль скидывала свои лепестки, и их подхватывал ветер, когда он нес их вдоль окон первого этажа, мать отвлекалась от пялец, вся ее жизнь рождалась и вырождалась в этой летней минуте, когда ветер распотрошит палисадник. Она любила эти минуты больше, чем любила меня, маленький мальчик в желтых замшевых штанах бежит вдоль окна, и его пальцы пытаются поймать желтые лепестки, вернуть печаль в палисадник.
Ночи с его любовниками пунцовы, как шрам и глупы, как шрам или перезревшая детская тайна. Его тяготят просроченные грехи, его тревога выражена венчальными кольцами, потаенная жестокость – в его карманах. Он не понимает, что жестокость – это деление на ноль, его рассказы, его сумбуры и обман, где человечество делится на большие числа и конечности – это мистификация и глубокое заблуждение. Он никогда не умел делить на ноль; но ей интересна их разница, каждая капля этой разницы, особенно под мужчинами, в Этом она увидела серию маленьких шрамов у самого копчика, а ее отец – наверняка, нет; она всегда замечала их размеры, габариты, сужения и тайные комнаты, а он – отражение собственной незавершенной печали; гермафродит, которому отсекли фаллос, и она – полная желания поделить на ноль; творец монструозный пьес, материальных чудовищ, аспидно-черные глаза и сбившееся от ожиданий дыхание; она – комок нитей, называемых плотью, какая-то паучиха стошнила потомство в стеклянный ящик. Это было хуже всего. Ее презрели заочно и загодя, не за что-то и не вопреки. За это она отомстила матери разорванными заслонами, но та не умерла, умереть было бы слишком блекло, умирают только любящие, в самый разгар любви, остальные – никогда. Она и французская стрижка, она и мясная муха, она и отцовские любовники, и во всем этом ее не было, она никогда не бывала новатором, она спала только с теми, кого он пробовал пять или более раз, она верила в его вкус, и больше ни во что. Только спокойные нидерландские реки – его влекли эти погасшие, почти бесцветные мужчины, снимающие с себя одежду так, будто снимают кожу, у которых горят щеки, которые не знают стонут они или нет и не знают самих себя… он умел влюблять их в собственное прошлое, и все, как один, были слабы настолько, что не могли отказать его дочери. Наверно, их влюбленность задыхалась от чаяний, но и в этих тучах мерцал здравый смысл, они имели тысячу ложных причин быть с ней, чтобы воздействовать на него, и ни разу эти вскрытые комнаты тайн, прозекторские, амбивалентные джунгли или монастырские лачуги – не получали желаемое.
Миндальная комната. Наверное, он знал о Франке, но экономия слов медленно укрыла эту историю пылью. Она помнит, что долго вслушивалась, когда они оставались наедине, тонкие парижские стены – как набухшая от желания слышать вульва – и не могла разобрать ни слова, они уже лежали предельно близко и совершенно точно без одежды, но их занятия любовью не выражались последними каплями или стонами, она могли проводить в сумраке беседы всю ночь, так и не изливаясь, но все же, когда этот примитивный шум рождался за стеной, она могла уснуть со спокойной совестью, всякая беседа ее отца с посторонним рождала ревность, его же меланхоличные одухотворенные движения – никогда. Миндальная комната, где в янтаре застыли его запахи, он старомодно сжимает плотный резиновый шарик и содержимое флакона распыляется в воздухе, он все еще взволнован резонансом цветов и невозможностью умертвить свое тело ножом или долгим героином, а она уже спит с его любовниками. В сути, она не может вспомнить, сколько их было. После Франка, существование которого насчитывало около десяти месяцев внутри квартиры и двух изнуряющих рыданий на лестнице, он ускорил движение, акты мелькали, от скорости образуя зияние между кадрами, кто-то не задерживался даже на день, с большинством из них он даже не спал, ему хватало лишь одного – выпить до дна взглядом своих аспидных глаз, и когда они были опорожнены – в дело вступала она, кандидат самых банальных наук.
Я хочу очистить слово «извращение», манифестировать его утраченную суть, кухонным ножом отрезать экспрессию и окраску. В своей незавершенности, мой отец был прекрасен, тогда как я была извращением полнейшей укомплектованности; утвердив лишь один вид извращения нормой, он никогда не мог бы овладеть моей любовницей, в этом его Венеция шла на дно, только в этой незавершенности стандартов он продолжал двигаться.
Вот что заполнило столицы: дисгармоничные пары; беременные, похожие на паучих, уродливые молодые люди с поцелуями в прыщавые лбы своих случайных уродливых незнакомок; дурно пахнущий смог; поезда с обезглавленными бездомными в своих вагонах; люди и псы с идентичной вонью; пропахшие гарью бабы с мелированным мозгом; разорванные газеты и клочки диафрагм; листовки «мы против СПИДА» в ладонях спидозных педиков; работники строек и сами стройки шанкрами на старых площадях, лопнувшие края и черное семя; жертвы партнерства, скучные и лишенные экспрессии перепихоны; отвратительные фурункулы и спермотоксикоз, эякуляция-овуляция-дефлорация своим стальным кольцом вокруг мужских яиц и женских принципов; эпиляция воздуха, превентивный расстрел возможностей, оптические обманы и фатальные блики солнца, турки и европейские прокаженные в одном акте и бесконечном количестве белых капель; женщины – как волокна или застиранная одежда, любая из них лишена уникальности, она рождена, чтобы кто-то засунул двустволку в ее промежность и рискнул нажать на курок; снафф и продавцы; вывески тайных услуг и развоплощение самого факта тайны; сегодня пара напротив вызвала мою тошноту, она – как воспаленный аденоид, а его губы целуют ее гнойнички, медленно облизывает края ранки и погружает кончик – в сердцевину, мне хотелось разорвать ее губы; они, укравшие чужую одежду и чужие прически, автоматически раздвигаются, раздвигаются, раздвигаются до разрывов; монашки с влагалищами трепетных ланей; шлюхи – это продавцы желтых роз, синие жрицы Венеры без клапанов в сердце; застывшие в менопаузах изрыгатели правды; все они как собаки, вылизывающие друг другу яйца в ясновидении своего убожества, прильнувшие к кому попало, Менандр и Евклид, чудовищные 69 с залпами навылет, чьи-то простывшие аденоиды, женщины в чулках цвета «спелые блохи» с грудной клеткой, как вонючая спортивная кроссовка, открытые перспективам и новым жизням; общественный туалет «8-00 – 22.30, не бросайте туалетную бумагу в унитаз, не дрочите в раковину»
Мизантропия – это сакура. О ней говорят, только когда она отцветает. Сакура – это менструация.
Я редко встречаю красивых женщин. Это идет из потаенных чердаков, досок с обязательным ржавым гвоздем на конце, из той идеи, что красота не может быть выражена. Их глаза всегда тусклые, а каблуки изломаны. Стоит любить только ту, что за жизнь не сломала даже одного каблучка. Надо поджечь места, где танцуют танго. Различить красоту можно только в той женщине, которая ее скрыла. Старые католички с добровольно перевязанными трубами, воспетое женское сердце положить в новую пароварку от Панасоник: центр *** на Сент-Женевьев в день совершает около ста шестидесяти семи абортов. Красоту вещей и мужчин можно легко разглядеть под волшебным углом, в черной моровой язве под их коленом, в спутавшейся бороде и глазах мертвеца, в отсутствии зеркала и черных ногтях строителей. Запах миндаля слышен только сквозь самые грязные шеи.
Кабак *** едва ли оставляет отметины. Мое прошлое не помнит его обстановки, меню, шлюхи Розенберги с подносами и полуденной выпивки. Я вычленяю только Адониса, снова и снова рождающегося у дальнего окна, его глаза презирают Париж, его ноги ненавидят Париж и парижское метро за длительные переходы, его ноги чувствительнее любых других ног, каждый шаг отсвечивает темнотой, его глаза аспидно-фиолетовы, как цвет Сатурна, мы встретились в субботу, когда он уже доедал своих детей и поднимался из-за стола, и край его штанины взметнулся вверх, показывая на всеобщее обозрение третий глаз: такой же черный, глубокий, кажется, до самой кости, нарыв слезился, и слезы текли по голени вниз, засыхая комочками на черной шерсти, оседая синеватой бахромой на носках; огромный нарыв с божественной красной сердцевиной, как испускающее импульсы и запахи солнце черного цвета; нарыв, как нора землеройки или мышки-песчанки, исторгающий гноя больше, чем поллюции коммивояжера; нарыв, источающий звуки при каждом сгибе колена, когда импульс сотрясает ногу, и загрубевшие края раны дергаются; нарыв, сотрясающий тело Адониса болью, нарыв, как стягивающий к себе пространство магнит, – мужчина одернул штанину, и его лицо сохранило гордость.
Мой приятель сказал, как пахнут женские выделения. Там, в плоскости, женщины теряют в красоте и молодости, их лобок спутывается от слизи, если тело перевозбуждено, и данное перевозбуждение пахнет, как парижское метро; иногда они любят, чтобы мужчины облизали подземку и отыскали в этой подземке катышек клитора, и массировали его до тех пор, пока каждая вена не разойдется сама собой от желания умереть. Однажды он трахал ее сквозь темноту, кожа как принявший гротескную форму гной; он опустил глаза, чтобы рассмотреть в своей детской непосредственность, как его дружок входит и выходит, и увидел, что ее анус – это наждак; ее анус, это веревка и ее вид рождает желание вздернуться; ее анус светло-коричневатая цветная бумага, сморщенная, напряженная и шероховатая; неухоженный зверь с тонкими черными волосками… в тот день залп оплодотворил живущую внутри яйцеклетку, она медленно наливалась соком и жиром, слой за слоем новое существо вытягивало из женщины красоту, губы искажены будто цингой, грудь аморфна, плоть дисгармонична и лишена ясности.
Влагалище не только источает собственную вонь, но и вбирает в себя мужскую. На каждой женщине остается шрам ее коитусом, под мужчиной она трескается и распускается нить за нитью; деторождение – единственный способ спастись от дезинтеграции; безвоздушность и безыдейность ее существования находит свое воплощение в старых индуистских знаках: каменный круг с прорезью дырки.
Я смотрела, как она привалилась к перилам. Она – как стая голубей: сизая от страха и глупая даже обнажи ее до костей. Желание спасения рвалось из ее молчания, но я никогда не играю в игры. По крайней мере те, что рождены минутой истерик. Я хотела, чтобы она и голуаз умерли одновременно, глупость разбилась об асфальт, голуаз потух, я хотели синхронности и чтобы Сент-Женевьев ожил. Она выбрала плохое время, чтобы быть спасенной. А двигаться назад, когда есть свидетель, очень глупо. Теперь она играла исключительно мне, подавала условные женские знаки, походила на разворошенный термитник. Их желание быть униженными выражено в каждом мужчине. Каждый раз – маленькая смерть. Пуританство зовет их уничтожиться и разорваться пополам в сложных родах. Страсть к компромиссам в их упругих мышцах, они всегда склонны к бартеру. Если два извращенца желают ребенка, они могут рассчитывать на помощь яростных христианок, выражающих свою детерминацию в постродовых депрессиях.
За ее спиной была комната цвета миндаля. Гладенькие подмышки блестят желанием спастись. Но женщина всегда уступает страсти к синхронности: самообман оргазмов, увлечений и векторов. Она делает этот шаг, а я медленно докуриваю, и будто вбираю саму эту жизнь. Разбитая и сломанная от рождения кукла в секунду реализации на мгновение появляется на периферии циферблата, но портит эту секунду криками и трепыханием мышц. Тишина расколота хрустом костей и странным звуков стыдливого хлюпанья, пуританка разбита вдребезги, Сент-Женевьев молчит, внутренности, вывалившиеся из левого бока, похожи на крохотных змеек, случайно разорвавших змеюку-мать. Капли крови, как сакура. Сползшие трусики обнажают лес. Если жандарм захочет совокупиться с ее приостановившей движение маткой, он лишь докажет перманентность женской гибели, развоплощение и шовинизм во фрикциях некрофила.
Он купил желтых роз, а я рассказала ему о ней. Он не ответил и посмотрел в пустоту. Первое: его тело и душа были разделены. Второе: его тело действовало рассинхронизировано. Третье: даже его рука существовала пятью жизнями, по одной на каждый палец. Мы никогда не могли сойтись. Только на театральных премьерах нас принимали за любовников, краткий миг Сатурна, и все вновь превращалось в какофонию. Человечность и неполнота делали его совершенным и недоступным… а я вспомнила про Франка все. Эта мысль пришла мне вечером, когда я смотрела в замочную скважину, в ее узости комната казалась барочной и глухо-интимной, заколоченной изнутри, гетто любви было подсвечено желтоватым бра, ощущение и привкус миндаля, зубчатое движение возбуждения, мокнущие внутренности и палец на половых губах, по часовой стрелке: зубчатое движение зубчатого колеса. Я поняла себя живой в тысяче возможных форм и пристрастий, лишенной формы, голым содержанием, неспособным жить без паразитации внутри какого-либо скелета. К примеру, скелета моего отца.
Его вкусы медленно заполняли меня. Тусклые, как ушедшие поезда, просроченные билеты и заплаканные марки, мужчины дурной наружности приобретали во мне какой-то шарм. Он всегда пил кровь патрициев. Заблудшие около желания покончить с собой, они задыхались вакуумом его поцелуев. Франк стоял на коленях, а я видела голую спину моего отца, раздвинутые ноги, и грузного, монструозного героя пьесы по имени Франк, обладателя медвежьей груди и седых зарослей, его голова покоилась на коленях, пальцы моего отца, будто отлиты лично Гильотом, все одухотворенно печалью. Мой слабый стон разразился до кульминации, сразу после секунды, когда огромная голова Франка поцеловала его тело там, где под нежными слоями кожи начинает прослушиваться сердце… это было как темнота, но и яркая вспышка, как желтые розы, пропущенные сквозь жернов, как еще раз разорвать живот беременной паучихе, вырваться из нитей собственной плоти, только и всего.
Он ускорялся. Он доходил до первой космической скорости. Его чудовища и страхи оставались цельными. Мужчины разбивали об него свои крупные лба и прозябали в прошедшем. На каком-то этапе имена начали стираться, а позже – даже ходить по кругу. Безудержная и скучная карусель его неполноты.
В детстве я любила депо и заброшенные станции, как центр отцовской раны. Эти аксис мунди мировой печали, заплаканные, клокотали во мне черными перепонками. Мутная и слизистая вода выходила вместе со слезами во имя его потери. Здесь я была к нему близко, как никогда, но и это чувство тождественности утратило остроту с ходом времени. Теперь мне было интересно другое: сужает ли он мышцы, чтобы им было приятней? Говорит ли хоть что-то в процессе? И откуда глупость этих его кукольных чудовищ в хитонах полночи и звезд изверженного семени? Огромный Франк отдавался ему шумно, одной рукой хватаясь за его шею, будто в поисках надежды, его тело трепетало тонкими слоями жира, каждым своим волосам, широко расставленные ноги казались смешными; вторая рука откинута назад, и пальцы мнут воздух. Здесь его желание обладать. Незащищенность подмышек выражена краснотой его крупных щек. Понимание, что его не любят – легким дрожанием губ и актом самобичевание: у Франка болели зубы, но он так и не обратился к дантисту. Мой с ним поцелуй доказал, что Франк от мятежности грызет губы. Протестантского борова с забытым именем он седлал, как опытный ковбой. Боров был гол, но меж тем одет: в слизь избыточной потливости, стыдливое молчание и покров божественных суеверий. Самое интересное мое открытие произошло осенью на фоне французского неба. Оно редко бывает столь ясным и исполненным звездами. Они трахались на стуле, мой отец насажен на крупный стержень чернокожего джазиста, почти неразличимого в темноте, его лицо скучно положено на восково-ночное плечо, а рука делает вид, что треплет черные лопатки, на самом деле она продолжает спокойно и меланхолично держать сигарету, выдохи дыма в черную кожу, полнота скуки и смерти.
Я не просил их дарить желтых роз, но кто-то из них ощущал. А кто-то – нет и приходил без желтых роз. И те, и другие, и какие-то третьи, вырванные за подобную категорию, всегда уходили опозоренными. Получить от меня индульгенцию за прошлое или до конца умереть – оставалось их ребусом. Берг подарил мне аквариум с двумя образцами птицеедов. Выпуская их на свое лицо и чувствуя прикосновение лап – было мистерией в честь Изиды. Разгневанный Берг, сухокожий немец с размытой татуировкой амура, с крохотными легкими астматика и большим, но опорожненным, сердцем дельфина, в ревности схватил кухонный нож и обрезал обоим своим подаркам лапы. Мистерии в честь Изиды прекратились. Закрылась и лавка индульгенций или смертей для сухокожих Отелло с ягодицами крохотных Амуров. Амур ам энде…
Она любит полдни, когда Сатурн спит, когда ее драматург растянут в одиночестве на кровати, а рядом с ним дремлет аспидного цвета тень давно умершего человека. Его лицо в молчаливой мудрости, в красоте морщин, в парижском солнце. Черный гриф его груди, спутанные мышцы под бледной кожей. На нем не отображено количество мужчин, они словно не оставили отпечатка. Он пишет пьесы о чудовищах, творя чудовищ методом редукции, иногда они образованы из его любовников: чернокожий каннибал или старуха, обтянутая мужской кожей, – притчи на грани гротеска, которые никогда не пугали ее, даже в детстве. Но ее пугает, что на нем не остается следов, растяжек и каких-либо упоминаний о прошлом. Все уходит незамеченным. Стальной вор не хочет похищать его волю. А она помнит всех, и тело помнит всех. И от этой грустной и волчьей мысли надо спрятаться куда-то в него, но его сердце уже занято, и его постель уже занята: он и аспидно-черная тень. В такие полдни ей хочется вернуться в депо, к поездам и перегоревшим лампам.
Мы говорили о Франке только иносказательно. В субботу, в 17:34 по кухонным часам я сказал: «Беги от осознания, человеческая глупость черпает счастье исключительно в колодце себя, глупый разделяет человека и божественное, божественное и грех, а тот, кто додумается, что греховное не может существовать, потому как все мы существуем в круге бога, будет сражен. Природа тщательно хранит свою тайну и метит познавших несчастьем. Не знай, что грех тождественен божеству, что все греховное выдуманное им, а не человеком, потому как человек недостаточно развит для собственных изобретений, не знай и все должно сложиться…»
Он всегда пил кровь патрициев. Пил и молодел от ее жара. А я пила кровь уже выпитых им патрициев, и старость набирала вес. Это было похоже на беременность, самое чудовищное состояние из всех возможных. Что-то пробиралось в мою полость, жило своей жизнью меж складок, а он не замечал, ускоряясь и ускоряясь. Его вторая космическая скорость, когда любовников уже не было, когда перегрета необходимость в сексе, должна была вывести его на новый круг. Он должен был пробить собственную точку «А» и вернуться к изначальному. Это означало замужество. Букет желтых роз его палисадника. И я – превращенная в падчерицу. На новом витке будет тот, кто отвергнет меня, и тогда он выйдет замуж, тогда я вся тресну, выпаду на Сент-Женевьев, мои внутренности, как крохотные змейки, какой-то жандарм заставит мой труп отсосать, и единственное, чем обладает женщина – интуиция – крутило красную лампу и било набатом, что время перемен уже почти здесь, в этой точке, когда он двигается сверхбыстро, он вернется сквозь все пространство – назад во времени, чтобы снова встретить свою любовь. Любовь возможна лишь в коридоре, в конце которого горит свет смерти. Мертвая падчерица, чьи змеи расползлись по асфальту.
Иногда мне снится: желтый от печали палисадник, разрезанный надвое поездом.
Гений не может быть доволен собой. В редких случаях это идет из пунцовых детских травм или комплекса вины, синдрома дефицита внимания или кокетства. Чаще, если мы действительно мыслим об ангельском гении, мы имеем дело с другим. Полнота знания о себе, воспоминания о плацентном существовании, невозможность переиначить прошлое, необратимость процессов, книжное излишество. Некоторые углы выпирают за рамки гениальной жизни. Садовые ножницы. Некоторые слова препятствуют авторской воле и принятию своей гениальности. Так влюбленным тошнотворна мысль о повторном опыте любви, зато стремление к самоуничтожению – нормально. Главный герой собственной жизни стыдится вчерашнего и затмевает им завтра. Палисадник разрезан поездом садовых ножниц. Самоощущения себя на унитазе или в утренней тошноте – парализуют. Знание в себе отца или предателя внутренне дискредитирует. Похвала – садовые ножницы над желтой печалью гения.
Он всегда приписывал им непонятную значимость, облекал в знаки. Франк – был и Франком Иосифом и смутным призраком Франкфурта-на-Майне, а она гналась за разгадкой, печать эпигона, дарующая легкие гонорары, приводит к преждевременной старости и поразительным глубинам самоанализа. Неделю назад он читал «Иосиф и его братья», женщина сбросилась на Сент-Женевьев, а еще Франк, который Иосиф, и поэтому когда он разрезал кухню «его зовут Иосиф, у него свой розарий в Кёльне, мы познакомились на вокзале», она что-то ухватила. К полудню это зрело, Сатурн съел ребенка в субботу, в холодном сне ей снилось, как она крадется к дому с желтым розарием, и слышит, как ее отец стонет «Иосиф», и это дом Иосифа, и это Кёльн, а он стоит у калитки. За гранью добра и зла. Это что-то значило, вторая космическая скорость снизится до первой.
Мне снится сад, каждую тревожную ночь, желтые розы цвета гноя.
Ежеминутно глядя на часы, он выбирал галстук. Суббота и полдень. Сент-Женевьев возвращен к жизни, асфальт отмыт от крови, как поступил жандарм с умершей – никому, кроме жандарма, неизвестно. Она смотрит на букет желтых роз, которые он купил для Иосифа. Это был знак состриженного прошлого. Они собирались в Венецию, это протекало из Томаса Манна на гондоле, и пришвартовывалось в занятие любовью.
От легкого ужаса ей казалось, что в его глазах горят полуденные звезды.
Ей снится сад, каждую тревожную ночь, она стоит за его оградой и смотрит на розы, цвета желтого жемчуга.
Гений всегда одинок, пока не вберет свою гениальность: в жестокости, искусстве или любви, даже в страдании или попустительстве. Когда мускульная сила перестает сжимать горло жизни, гений перестает быть гением, и перестает быть одиноким.
Иосифу снится сад с лишаем выстриженных для возлюбленного роз, нежные полуденные поцелуи (напряжены даже бакенбарды) и небо, цвета затмения, пунцовые щеки, вновь оживающие в ночи от озвучивание детских тайн, вновь живут и трепещут все кошмары и все скомканные углы, кости болят от честности.
Она пьет кофе.
Он едет в поезде.
Иосиф с букетом желтых, как собачья преданность, роз ждет на перроне.
От фиолетовых, как Сатурн, и аспидных полдней она растягивается вечером, розовато-тошнотворных закатов, и беззвездных ночей, чтобы начать новый женский цикл, а он продолжает, а он всегда продолжает, никогда не деля на ноль, двигаться в собственной неполноте.
Эпилог
В аромате, ночном аромате. Комбре, будто содержимое музыкальной шкатулке. Стеклянные звуки летят над побережьем. Город, вырезанный из туманного вечера. Очертания заброшенных садов, башни и своды спят, нефы окутаны темнотой. Комбре точно такой, каким Гертруда помнила его, вырывается посреди опустошенных земель, дворцами воспоминаний, огромными анфиладами тихих звуков, память на кончиках пальцев, хрупкие очертания домов и фасадов, память вырывается здесь наружу с табличкой «Комбре, 434 человека, Марселю с любовью» у входа, город, где поклоняются воспоминаниям. Демонам. Умершим детям. Любовникам. Комбре стоит на берегу моря, легкий бриз накрывает крыши домов солью. Комбре –игрушечный оазис посреди ночи. Гертруда слышит, как звенит тишина на этих улицах; Гертруда идет по тонким и коротким улицам, по которым когда-то дети гоняли собак, Гертруда идет мимо домов, спящих, неуместных, где матери в белых фартуках баюкали младенцев. Море беззвучно. Комбре ненавидит звуки. Небо сливается с морем. Комбре… белые лепестки вишни, моя вина, вся моя вина, которая уже давно больше и шире, чем любое человеческое слово, мое воспоминание о тебе и к тебе, моя сладкая боль; Комбре, моя печаль, мое начало, наконец, выступает из темноты опустошенности, как мой конец; Комбре, мои слова не в силах справиться с этим городом; Комбре, крыши осеннего цвета; Комбре – черно-белое кино со счастливым концов, Комбре – нарастающая печаль; моя преступность, моя меланхолия, чужие слова, мои сны о тебе, все сплетается в этом городе, становится его камнями, стенами его домов, все занесено снегом, все в пепле, у ног Гертруды растут волчьи ягоды, цветы аконита, как же они красивы, как же бесполезны человеческие слова, когда Гертруда идет по городу мертвых; городу, отравленному аконитом, цикута всегда растет там, где ей хочется, вот славный город, вот и славный город, она идет по тебе в страшном предчувствии и одновременно в страшном оцепенении перед воспоминаниями, вот она идет и слова как бы замедлены, как бы пытаются передать медленность ее шагов, но бесполезно, Гертруда идет, слова не справляются с диапазоном моих ощущений… иногда я вспоминаю тебя, будто заглядываю в глубокий колодец, улитка ползет по кирпичной стене, и часто твои очертания сплетаются для меня в Комбре, город потерянных снов, иногда иногда иногда… там, где крохотная церковь, и где я плачу от мысли, что бабушка когда-то умрет, и становлюсь непонятным читателю в попытке говорить ровно так, как воспринимаю… Комбре, город во Франции, оказывается Здесь для Гертруды, стены церкви окрашены зеленой краской; не существовало более счастливого дня, чем тот – 15 мая, помнишь?, видишь ли в своих беспокойных снах? – когда Гертруда и Джекоб Блём приехали в Комбре, тот Комбре, который во Франции; здесь, в этом ДРУГОМ Комбре Гертруда двигается сквозь толщу своих воспоминаний о том, как было ТОГДА, 15 мая, пятнадцатого мая, когда Джекоб отошел после дороги вот в этот домик, и действительно, вывеска WC, старомодная цепь, обхвати ее и воды унесут, далеко унесут тебя, и вот она одна и смотрит вокруг, тогда цвели деревья, какие-то деревья, и она разглядывала этот город, и ей уже было больно, до того этот город, это Комбре во Франции было упоительным, ей было больно, ведь Комбре как бы и создан для того, чтобы дарить счастье, а затем растворяться, сворачиваться в клубок на дне памяти и тревожить оттуда своими стеклянными нотами; будто бьют по стеклу… Джекоб сказал «пошли, пошли, надо посмотреть город, вот здесь Пруст разглядывал закат, надо же!», они держались за руки, какой славный город, упоительное солнце было на его щеках, на его щеках и на стенах города, Гертруда смотрела на его щеки, ей не верилось, что хозяин этих щек принадлежит ей… она чувствовала, что Комбре утекает от нее даже в первый день, что Комбре уже удаляется, становится на секунду-минуту и час дальше от нее, отрывает себя по кусочкам, и Джекоб отрывает себя по кусочкам. Она уже знала, что он любит мужчин, одного или множество, только не ее… – там, в Комбре она впервые поняла, что все ее счастливые минуты уже в прошлом, что они даны ей лишь для того, чтобы оглядываться, чтобы оглядываться к ним и «где вы! Всей силой творчества я к вам кидаю свои воспоминания, свои письма в бутылках!», вот в этом доме, где плющ, где плющ, на втором этаже они жили ровно две недели, и пили на завтрак вино, вино и ели круассаны, иногда занимались любовью на прогретой солнцем постели, и тогда она могла видеть каждый край его тела, каждый необрезанный угол, тогда они могли быть ближе, чем когда-либо, здесь, в Комбре, в городе утонувших слов.
В Комбре нет электричества, почему-то, к вечеру зажигают масляные фонари. Все эти улицы, столь изученные за две недели, улицы поцелуев, улицы нежных объятий, все кафетерии с утренним кофе, все магазины с сувенирами и утренним хлебом, все это с отпечатками нашей памяти, все это внезапно возвращающееся к нам сквозь столетия намеком, теперь снова перед Гертрудой – пустое, закрытое, состарившееся. Этот город не вспоминает Гертруду, он похож на ослепшего пса, сгорбившегося дожидаться смерти рядом с морем. Все крыши спят; а где теперь ты и кому целуешь спину, кому твои нежные объятья и твои поцелуи? Кому ты открываешь новые города и кому минуты счастья? – кому после минуты воспоминаний и горя? Здесь, в мутноводье, куда смерть приплывает на нерест, Комбре абсолютно пуст, и над ним не горит солнце. Здесь ничего нет для Гертруды.
Наконец, она видит его. Вольные куртизанки называют его Марсель31. Его белая кожа обвивает стены церкви, Марсель спит между вишневыми деревьями, сотканный из огромного количества тел, он огромной змеей обвивает стены, он заполняет собой содержимое церкви, тысячью своих рук удерживает решетки на окнах, хватается за землю, удерживает равновесие… в жизни Марселя существует только дождь, он – это душевнобольной ребенок, чье приближение приносит ночные кошмары; выбеленная кожа последовательно соединенных тел тихо дрожит от неведомых снов, текущих внутри этого скроенного великим инженером конструкта. Гертруда разглядывает, как ногтями он рвет сам себе кожу, погружает в себя пальцы, затем погружает до запястья в раны, затем резко выдергивает руку, и рана сразу же зарастает. Конец его нескончаемых сегментов прячется в церкви, там Герти держала руку своего возлюбленного, и они слушали проповедь о… о чем-то; она знает, что все уже позади. Все, что когда-либо было, уже уничтожено, уже стало частью Марселя, забытого мальчика с пробоиной в черепе… ничего уже не будет, все будущее уже расчерчено и утрамбовано Арчибальдом. Гертруда стоит рядом со спящим чудовищем, и считает – чтобы на чем-то остановить взгляд, чтобы отпустить себя – его сегменты, эти мужские, женские и детские тела, поясница женщины рожает шею ребенка, поясница ребенка заканчивается шеей дородного мужчины, поясница дородного мужчины уходит в шею жилистого подростка, подросток – женщина, женщина-женщина-мужчина-ребенок-мужчина-мужчина-женщина-женщина-мужчина и так, кажется, до бесконечности, Марсель – будто огромное количество воспоминаний, всех мужчин и всех женщин, которых мы встречаем, спит, утыкаясь в своды церкви… о чем же была проповедь? Она не помнит. Джекоб сказал, что любит ее. И ей казалось, что после этих слов все уже решено, что, наконец, эти слова сформировали какое-то будущее. Он сказал «я люблю тебя…», и спустя два месяца настала ночь раскаленной крыши. Что нам до всего этого? До тысячи и тысячи тысяч растраченных слов и встреченных людей, пусть все слова потеряют свой смысл, пусть слова перестанут последовательно соединятся друг с другом, пусть тело Марселя рассыплется на составляющие, пусть отдельно ползут во все стороны эти торсы, эти крупы, эти женские и мужские обломки, пусть же, ПУСТЬ ЖЕ это нищенское человечество прекратит соединяться друг с другом, пусть лопнут формации, пусть эти крупы ползут, отталкиваясь от земли жилами и смотрят вперед разодранными шеями, пусть… что Гертруде до Марселя, до его страшного сна? Она здесь, чтобы прекратить все неловкие попытки объясниться с самой собой. Она здесь, и она стоит рядом с огромным червем по имени Марсель в городе под названием Комбре, посреди Темноводья, тогда как Джекоб Блём – великий господин безумия – где-то там, где-то far far away и ей все еще есть до этого дело… она не может собрать свои слова в бусы, не может нанизать одно на другое… Комбре, крыши, Комбре, башни, Комбре, церковь, на втором этаже 15 мая они занимались самой лучшей любовью, Комбре, Марсель, Комбре, три тысячи четыреста шестьдесят два тела, Комбре, образуют чудовище, Комбре, спящий-спящий город, где же теперь и куда же теперь… где же спит то, что дарует покой?
31. На мой взгляд я даю очень однозначные ответы всем своим претензиям и потугам; скажем так, Гертруда презрительно относится ко всему, что было мною сделано, и она как бы признается – от моего имени – в полнейшем отчаянии.
Я не собираюсь здесь или приватно – с тобой – обсуждать мои моральные состояния, но ставлю перед тобой вопрос о подобной – финальной – трактовке Миз М., ее завершающем штрихе. Ясно ли это в достаточной мере?
Какими бы не были законы этого сна, Гертруда знала, что ответы ждут ее на втором этаже. Стоит подняться по лестнице; стоит услышать знакомый хруст, о, как Джекоб спотыкался на этих ступенях, крохотные домики Комбре скроены не по его габаритам, стоит вернуться в этот дом, в самое сердце музыкальной шкатулки, подняться по лестнице, вторая дверь справа, здесь вежливая семья – один из тех мужчин с виноградниками и его бесплодная жена – сдала им комнату, именно в эту комнату стоит подняться, на втором этаже – там, где кровать, там, где занимались любовью, там, где из окна прекрасный вид на церковь, на Марселя, плачущего в своем бесконечном сне в скаты старой крыши. Гертруда слышит, как что-то звенит в этой комнате, будто кусок льда, будто сосулькой бьют о граненый стакан, кто-то нажимает клавишу, призывает ее к себе, и она отрывает взгляд от Марселя, величественного чудовища, конвульсий безумного мальчика, ночной тревоги, от ступенчатой структуры этого храма человеческих тел, и снова идет по улице. Улица такая же, как тогда; одно лишь существование Марселя напоминает Гертруде о временных петлях, о темной тревоге памяти; длинные ногти разрывают кожу, длинные пальцы держатся за решетки на окнах, только лишь это как-то напоминает об ирреальности происходящего; в остальном же – улица заполнена старыми запахами, Гертруда может слышать слова, произнесенные в прошлом, может слышать запах его духов, слышать его бас, слышать раскатистый смех, она напоминает Орфея, который идет навстречу своему суженному, она боится оглянуться и увидеть Марселя, пропасть навсегда; она идет по дороге своего прошлого, протягивает руку и открывает дверь, обычную дверь, тысячи таких дверей в мире, даже миллионы и больше, но как много в этом рукопожатии с дверной ручкой, какое все знакомое, будто старый любовник, она вступает в комнату, здесь был господин Блём – когда-то, много столетий прошло, но для Гертруды не существуют столетия, она поднимается по лестнице, каждый предмет для нее – отголосок давно ушедшего, все идет ко дну ее памяти, все является указанием, они с Джекобом посещали книжную выставку во Франкфурте, каждая книга, которую держали его руки – содержит в своей фабуле намек на возвращение, он тогда купил: «Апокалипсис», «Замок», «Без дна», и это слишком сложные книги, чтобы Гертруда сходу распознала эти откровения в их страницах, направилась верным вектором; почему-то здесь и сейчас она снова в точке безумной к нему любви, хотя, казалось бы, все уже отступило и перестало саднить, но теперь этот период тишины кажется ей вымышленным, снова перед ней времена, не допускающие отсутствия любви, заполненные исключительно его благородным именем, Джекоб Блём, она поднимается по лестнице, как уже говорилось, вторая дверь направо, распахивает. Здесь вещи далеких эпох, зонт сушится у окна, как в тот день, когда сильный ливень застал их во время прогулки, здесь хлеб и вино на столе, черви ползают по зеленоватым луговинам плесени, здесь постель взлохмачена танцем ведьм, здесь петля времени сжимается, удушая Гертруду острейшим дежа вю, здесь на стуле сидит мужчина и в руках его мертвая кукушка, клюв ее открывается и издает – тот самый пронзительный и стеклянный крик, «она отмеряет воспоминания», – говорит мужчина, затем поворачивает голову, и Гертруда видит его пиджак, старомодно торчащий уголок зеленого носового платка, видит рыбьи кости, воткнутые на манер булавок, видит четки на его запястье из высохших шариков рыб, как же они называются (?), с иглами, запястья растерты этими сухими иголками до крови, «я рад тебя видеть, Дева Голода, я очень рад снова быть с тобой…», он поднимается из кресла, как поднимаются покойники, и Гертруда понимает, что говорит с мертвым, но никакого страха, наконец, она в родном космосе, где живые разговаривают с мертвыми, она чувствует к незнакомцу чувство кровного родства, и он улыбается ей, он протягивает вперед руку, и она гладит его пальцы, сухие-сухие, будто бархат, «меня зовут Франциск, если ты помнишь», и Гертруда/Матильда/Венера/Астра/Ингеборг – все они, невинно убитые любовью Джекоба Блёма, отвечают, что помнят, и, кажется, что это действительно так.
Франциск. У нас мало времени.
Гертруда. Времени для чего?
Франциск. Время ускользает, Матильда. Само понятие времени. Тебе не стоит понимать. Есть вещи, которые лучше не понимать. И не помнить. Франциск у окна, подол его пиджака весь в рыбьих костях. Папа торопит меня, папа торопит нас всех.
Матильда. Папа?
Франциск. Не делай вид, что ничего не знаешь. Его песня, его ошеломляющий голос, разве ты не слышишь, как он поет к нам свои страдания? Не важно. То, что ты видишь перед собой – отжившая и гнилостная структура внешних миров, папе очень плохо, и его рассудок не справляется с удержанием этой местности на плаву. Внешние земли скоро будут уничтожены, он готовится к последнему спектаклю. Поэтому я здесь. Чтобы подготовить тебя.
Медея. Я ничего не понимаю.
Глаза Франциска безжизненны, как пейзажи Темоводья. Большую часть своей жизни он провел в уходе за физическим телом Прокаженного, за поддержанием его плоти в состоянии близком к функциональному:
Франциск. Разум того, кто породил Темноводье – очень слаб. Скоро темнота накроет эти земли. Вот о чем я тебе говорю, Матильда. Папа хочет подарить нам свой великий подарок – великую смерть. Народам. Иным Народам. Тем, чьи многочисленные имена перечисляют люди; те, кого они боятся, к кому взывают, кого умоляют о помощи. Здесь и сейчас наступает новая эпоха, Матильда, Отец обрывает связь Народов и человечества раз и навсегда. Смерть – это шлюз между человеческим и внечеловеческим, но теперь Отец больше не нуждается в шлюзах, выходы и входы будут уничтожены вместе с внешними просторами. Человек и волшебная кровь больше не встретятся. Он отказывает людям в магии встречи с нами.
Астра. И что это значит?
Франциск. Это значит, что отныне никаких сказок, надежд и упований. Человек остается наедине с человечеством. Иные Народы будут забыты. Отец подарит им вечную ночь, разум его погружается в темноту, и он – подарит нам ночь своего рассудка. То, что предсказано, скоро будет исполнено, Гертруда, руки Народов выполняет его волю, мы отрываемся от земли, навсегда покидаем ее пределы, клоаки и сумбур человеческой жизни, мы умираем смертью забытого искусства, мы умираем, как песня, мы вытекаем кровью из тела человечества вместе с гибелью Отца. Сказки закончены, Матильда, Отец приказал – уничтожить Искусство.
Знакомое чувство правды, кровь говорит о правильности такого выхода, исход в кромешную темноту, в вечную ночь Великого Прокаженного (она думает о Шиве, умершем Шиве и танце Кали на теле супруга), беззвездное пространство потушенных надежд, остывших стремлений.
Венера. Он плачет во сне
Франциск. Он знает о своей судьбе. Он – это ворота, а мы начинаем уничтожение ворот. Исход в темноту начинается здесь, в забытых землях, некогда величественных, воодушевляющих и одухотворенных, ныне обескураживающе костных. Темноводье – как лишняя строфа в стихотворении Отца, ненужная ремарка модернисткой пьесы, ты должна это понимать. Марсель должен погибнуть, и поэтому он плачет. Таким, как он, трудно принять реформы. Перемена – ужасающая катастрофа для тех, кто существует вне цикла смерти и перерождения. Его существование множество кальп принуждало людей к сотрудничеству с Народами, он приносил страшные сны, бури и гибели, а теперь ему самому – уготована гибель; он плачет от непонимания современных процессов, перемена тенденции равносильна для него хаосу, он плачет в молитве, но молитвы не будут услышаны, он плачет о столетиях своего гордого полета, но память его будет уничтожена, и память о нем – сотрется из памяти людей; люди больше не будут видеть сны, когда Народы уйдут; человечеству не нужно искусство, не нужно волшебство наших красок, им не нужен Марсель, и его дурные дождливые сны.
Он, это огромное тело о множестве тел, парило на фоне хищной луны, там, во время бойни в Кале, в тысячи городов, он свивался кольцами в триллионах голов и разворачивался там, как ночной цветок, кожа его – аромат беды, сны его – кровь из открытой раны Христа.
Франциск. У меня есть кое-что для тебя. Ты помнишь, как познакомилась с Джекобом? Как – каждая из вас – познакомилась с ним? Как тысячи женщин были обмануты его шармом, и как его шарм – делал вас Девами Голода?
Альбертина. Я не хочу… Марсель очень красивый ребенок. Посмотри, как он трепещет. Белая кожа просвечивает до синих жил.
Франциск. Убей его ради нас, и я напомню тебе правду. Марсель – спящий внутри твоего сна. Убей его, ударь в солнечное сплетение искусства.
Белая кожа прозрачна до синих жил.
Ингеборг. Я люблю Его. И я тоже – прозрачна до белых жил.
Франциск. Да. Ты ясна для нас, но мы любим твою простоту. Мы слышим, как поет твоя кровь, наша кровь, Народы шумят внутри твоих вен, и ты знаешь об этом. Это любовь к нему сделала тебя одной из нас. Бархатный Король, великий Тихопомешанный… его взгляд влюблял в себя женщин – поколение за поколением. И все они сходили с ума… Стелла, Артея, Медея и Федра. Вам нет числа.
Они помнят. Каждая из них – с чего все началось. Это называется сердце. Жажда любви, самоубийства, вечной ночи.
(Камера движется вдоль линии ее жизни. Мы видим какие-то лохмотья, слезы, полночи, сигареты, улицы, вначале похороны собачонки, а затем ее покупку, мы разматываем в обратную сторону, а теперь вот – Гертруда встречает Джекоба Блёма. Где и как? Там, где обычно встречаются люди. Как – с первого слова32.
32. Смертная (где-то на фоне фонтана, фонтана, ФОНТАНА, какая фантастическая уникальность) и мыслит себя отличной от всех остальных, – конечно, мыслит, – уже вникшая в искусство и поцеловавшая его тайные части. Клитор искусства – это Селин, Берроуз, это Лотреамон, Тракль, Хайм, изысканности Янна, это все остальные, которых принято не понимать. Герти сидела на фоне фонтана и читала «Киску, короля пиратов», ей нравилось название, броская обложка, ей нравилось читать что-то этакое. Она пробиралась в самые дебри. Итак – фонтан. На Гертруде жемчуг, молоденькие интеллектуалки очень любят жемчуг. А еще – молоденькие интеллектуалки любят больных мужчин. Да, чем серьезнее болезнь, тем полнее и глубже их знающие Шумана пальцы готовы проникнуть в анус возлюбленного гомофила. На ней чулки. Заповедная зона, паутина, Берлинская стена. Всеми своими фригидными жестами, ладонями и страстным перелистыванием, глазами – грозовыми перевалами, они ищут своей бахроме больного хозяина. Собака вылизывает собственные яйца, интеллектуалка вручает себя в руки Мальдорора. Мы не хотим банкиров, мы боимся успеха, мы ломаем длинные каблуки, мы хотим сумасшедшего. Безумие, о, романтика его бакенбард, о я хочу вылизывать твои подмышки, огромные впадины, нырять в их изгибы, леса самоубийц, я хочу все это, медленного меланхоличного вращения, вращай меня, вращай меня сидя, лежа, я хочу страдания, отвращай меня, вращай (крепко сжимая мой череп, заставь меня надкусить ось), но лучше прежнего, моя интеллектуальная душа так хочет муки, я знаю Гете и фа-диез известных педерастов, мне снится все это, я знаю, но я хочу иного – вращай, под фа-диез минорных симфоний, и еще и еще вращай унеси меня ветром говори непонятно я на французском отшлепай мою немецкую задницу закинь в мои неводы своих влажных рыб распаши раны моего океана я пою тебе песню твоему безумию – я дух и середина, самая трепетная форель в озере интеллектуалок – хочу такого, такого, что называется Любовью, выеби меня, выеби, возьми мои кисти, сожми, будто извлекаешь виноградный сок, расчехли мякоть и давай говорить о Запретном Городе, я та – что у Юкио Мисимы наполняла храмамы, их чаши своей кровью, та десница, та девственница, та самая, единственно-достойная твоего бычьего хера… а потом, когда этот внутренний шторм оседает, ее фригидный рот говорит «Мсье, вы читали Жоржа Батая?», какой в этом жаркий намек, читал ли он, а если нет – она расскажет, она проведет его в виноградник, трахни меня в отцовском «Форде», устрой грозовой перевал, перекатывай меня на языке, облизывай свое самочувствие, а еще я хочу – быть Кларой Шуман, чтобы быть рабыней безумца, чтобы быть сжатой гениальностью – о потрись своим пиратом о мою киску – я хочу излить интеллектуальный сок в бокал твоего рта, вылижи мне. Он отвечает «нет», рассеянный баритон игры в бисер, слова раскатываются по площади, его заманчивая и монструозная фигура облачена в печаль, она уже горит к нему, влюблено обращается в лед, и ждет молчанием, позволяя ему покорить ее глубины. Обычно, они трахаются. Мужчине только дай потрахаться. А потом все кончается. Но с Гертрудой иначе. Джекоб что-то ответил, Гертруда подхватила, они говорили так много, так долго, с Герти такого еще не было, никогда не было – ломается позвоночник – она нашла себе, в свои интеллектуальные руки, в свои скважины, в свои книги, самого больного, чья болезнь невидима глазу (так даже лучше, эти интеллектуальные самки не любят оспу, хотя и возбуждены смачными оргиями в лепрозории), столь питательна и суггестивна для инфантильных цветов Билитис. Цветы пожинают на чердаках, выпускных вечерах, раскурочивают позвонки (прижавшись к дереву), в переписках, по телефону, с незнакомцем у телефонной будки, иногда руками (влажными пальцами раздирая заслоны), а засидевшиеся видят себя Избранницами. Двадцатисемилетняя Гертруда после бокалов вина, после пронзительных взглядов, на седьмом свидании, нежно провалилась в дефлорацию и всплыла наружу совершенно новой. Их «роман» с Джекобом Блёмом длился год и четыре месяца, в это время он был ее мужчиной, но не ее творчеством, Гертруда спала внутри кокона, в его руках, распознавала звездную карту его болезни, рассеянную вдоль линии позвоночника. Его спинной хребет был Сьерра-Маэстрой, на закате кожа отливала опасно-красным, туманные глади и вздыбленности спали в его головокружительной меланхолии; она снимала с него очки – четыре диоптрии – гладила по лицу, он все еще был просто ее мужчиной, никакого творчества. Лиловые тени прятались от ее глаз, она могла позволить себе содержать мужчину, его болезнь – скрытая – будоражила ее подниматься на Сьерра-Маэстру, она срывалась вниз, чтобы вновь начать это плавание. Готовя завтрак, она чувствовала скорый шторм. Может быть, он спал внутри витрины его интересов – трудности самоощущения пчелиной матки? восприятие пальцев черно-белым лицом фортепьяно? чувственные привязанности носков к мужским ногам? и т.д. – в пещерах, спрятанных воспоминаниях, в огромных мусорных свалках, внутри клоаки сердца, каналы распустившей венами повсюду, даже в пальцы, которыми он прижимает к себе Гертруду – лишь с видимым удовольствием… она ощущала сильные приливы, она все понимала, она знала название, она слышала имя, старые бумаги с шотландскими гербами, его взгляды, когда велосипедист обкручивает дом своим движением, мышцы выгнуты в напряжении и крутят педали, запахи, латентное движение вслед за этим незнакомцем, а затем – подавленное темнотой начало – возвращение в комнату Гертруды с каким-нибудь нежным словом из книг, которые она читала, он воровал их с поверхности, ее двухметровый вор, ее кадило, великий гомофил ее творчества. Она полюбила его, когда Джекоб ушел; это нормально, женщина всегда любит прошлое, любит время своих юных песен, любит своего первого пахаря, ее земля – помнит запахи сумасшедшего, Джекоб Блём опутал ее воздухом своих легких. Теперь она любит его сильнее, чем раньше. Но больше всего – за минуту интеллектуального восторга, когда рассудок клокочет и пенится, одобряя эстетику минуты, секунды, вздоха – за то, КАК он ушел от нее, за те последовательные и идеальные движения разрыва, за те сакральные и отлитые из вечности пули, за ту ночь – на раскаленной крыше. Камера отъезжает в стороны, подает зрительницам носовой платок. Время паузы, перекура, антракт с плотно набитым плотью кабаком первого этажа нашего театра. В воздухе – мысли об этой болезни, захватившей лестницы и подвалы Гертруды. О том, как она протягивала к болезням все свои девственные ожидания, о том, как ее тело после известной эпилоговой ночи рухнуло на шелк постельного белья в новом качестве, в новой категории, обновленное, изнывающее, изнутри распираемое то ли любовью, то ли искусством. В этом сумбуре первой покинутой ночи – она вспоминает, как завоевывала его. Как это легко – кормить с руки гомофила, как это приятно видеть его старательные попытки исправиться, помогать этому незрячему находить вход в ее ясли… и о том, что эта старательность всей силой своего послушания обращается позже (неизбежно) в ревностное возвращение к своей природе, силой этого возвращения сокрушает женщину, ненавистью своего возвращения уничтожая ее стены, ее последние храмы, ее недавно обретенную римскую империю с абсолютной властью на бессловесным господином Блёмом; с какой дикой заботливостью он относится к тем, кто молчанием принимает его недуги, и силой этой дикости платит потом ударами за молчание; все в этом несправедливо: разрозненная Гертруда, пытающаяся собрать разрозненного Джекоба, плачущая от любви, и разрозненный Джекоб, который разрозняет Гертруду за то, что та переполнилась гордыней и самостью – вздумала, что сумеет его собрать – разрозняет за дерзость; Джекоб, позволяющий себе плакать от настоящей любви, своим плачем повергая Гертруду в плач… там, на коньке раскаленной крыши. Джекоб всегда любил картины Джотто. Все происходит по канонам высокого искусства. Она просыпается, а его нет. Он на коньке раскаленной крыши. То ли воет на луну, то ли пытается завершиться, и все это – в комке и слизи его надрывного плача по шотландским квадратам; и все это обрушивается на нее, когда она – облаченная в шифоновую ночнушку красного цвета – выбирается из постели, чтобы отыскать его. Она чувствует, что начался шторм. Неясный, но начался. Он не отлучился по своим крохотным нуждам. Нет, все совсем иначе. Теперь и отныне – все уже иначе. Он оборачивается на нее – как в фильме – а за его спиной массив города, и смотрит на нее этими своими жалобными глазами больного, сквозь четыре диоптрии, в пижаме, его лицо озлоблено недавним воем, мышцы его напряжены и шерсть на теле стоит дыбом. Она понимает, что это конец. Он оборвал цепь. Она понимает это, но ждет хоть каких-то слов. А он, если и хотел сброситься, теперь все свое желание смерти обратил в злость на нее. И поэтому, зная ее желания, он молчит, чтобы она была удушена, чтобы она все поняла и тоже захотела вниз с крыши. Она хочет не хватать его за руки и соблюдать приличия, но хватает, а крыша такая горячая. Она спрашивает «почему?», а он, как мужчина, зажевывает большими челюстями с болью в зубах интенцию любви, но называет имя. Она не запомнила, но это мужчина. Джекоб покидает ее. Гертруда думает упасть с крыши, затем хочет сохранить жизнь ради боли этого мгновения, и поспешно возвращается в дом, боясь соскользнуть с крыши. Она не ищет его, его уже нет, она возвращается в постель. Джекоб Блём уходит навсегда.
Всего секунду памяти: воспоминание завершается)
Франциск. Значит, ты догадываешься об этом. Хочешь, я подарю тебе свою мертвую птицу?
Федра. Нет.
Франциск. Убей Марселя.
Одетта. С Джекобом все хорошо?
Франциск. Ему плохо, его сердце болит, но не бери в голову, ведь господину Блёму всегда плохо. Это его путь – от корней дерева Мертвых по левой руке. Убей Марселя.
Надалия. Почему я?
Франциск. А почему бы и нет? Убей его. Убей, ради всех нас. Вырежи этот тромб из отцовского тела. Усмири его боли хотя бы на пару минут.
Лизавета. Я не могу. Я не убиваю детей.
Франциск. Убей Марселя. Разбуди его. Прерви его сон. Это так просто, Матильда. Детоубийство – это так просто.
Руки мертвого обняли плечи Гертруды, мертвая щека прижалась к ее щеке, губы мертвого сказали в ее ухо, – мир так беспокоен, Девы Голода плывут в снежной тиши, страх и тревога мучают папу, убей это отвратительное чудовище, Матильда, приведи в исполнение вердикт миллионов, замученных его страшными снами.
Розенберга. Джекоб Блём…
Франциск. Да, Матильда. Ему плохо. Без тебя – так же, как было с тобой. Со всеми вами. О, как крепко умеют прижимать к себе мертвые – убей это хитросплетение трупов. Он боится громких звуков. Оглуши его. Разорви его в клочья. Подари ему какофонию, ведь мертвым быть лучше.
Больше не будет пестрости форм; больше не будет реющего полета, ничего больше не будет из свободных искусств, останутся лишь улицы, суженные до игольной промежности, останутся только улицы, освещенные – исключительно фонарями – со смертью Марселя начнется разрушение метафизического застенья, стиль станет костным, кости его будут подпирать социальную кожу, соки этой поэзии метастазируют сердце.
Маргарита. Кто его мать?
Франциск. Это так важно?
О.М. Я должно знать, кого лишаю ребенка.
Франциск. Он порожден старостью; ветошной эпохой избыточности и подробности, духом романтизма и запутанностью седой классики. Он пережиток жестокой и упаднической эпохи, когда разум Отца пенился и клубился бессмысленным нагромождением образов.
Марселя родила одна из железных дев. Как ты знаешь, это устройство прокалывает органы человека таким образом, чтобы он еще прожил достаточно долго. Кровь цедится из сквозных пробоев, пачкает чрево железной девы. Одна из них зачала от крови казненного, и вскармливала в своем железном каркасе ребенка, откармливая его мясом убитых. Их тела – стали первыми деталями в бесконечности Марселя, а затем – он присоединял к себе тех, чьи сны нравились ему больше прочего – чаще отчаявшихся женщин, педофилов и детей с умственными отклонениями. Его детская привязанность к матери выражена в накопительстве. Марсель рожден суровой эпохой чудовищных зим, волки, снега и бураны, холода, голод. Он привык собирать все, что плохо лежит; он заботится о своей матери; ему снится – каждую секунду ему снится – что, когда придет час, он скормит ей свое разросшееся тело. То есть, если ты рассмотришь эту махину в разрезе, то поймешь, что склад ее достаточно примитивен: мифический дискурс, чувство вины, помноженное на бурное воображение Отца, хотя формы Марселя, конечно, отчасти повторяют восточного дракона. Огромный червь, сотканный из гнилого мяса, хочет накормить мамочку падалью…
А она затерялась в эпохах. Папа всегда дурно относился к женщинам, их фигуры прописывались штрихами, лишь дополнительными персонажами по отношению к страдающим безумцам – например, Джекобу Блёму – и поэтому никому уже не узнать, где теперь и существует ли еще мать Марселя. Но я не слышал, чтобы современность продолжала использовать железную деву. Скорее всего, она умерла с голоду.
Миз М. Мы ведь говорим об орудии пытки?
Франциск. Убийства. Сладкого и долгого убийства. Но не подумай, Матильда, что в этом есть какая-либо глупая метафора. Все это – подлинное изложение истории его рождения. Она должна показать тебе, насколько извращенным и прямолинейным был подход Отца к сотворению своих первенцев. Именно так все и было: железная дева мясом жертв откормила сына.
Лиза. Но почему Комбре? Я не понимаю.
Франциск. Ты и не должна ничего понимать. Все, что ты видишь – дурно поставленный сон. Марсель – не создает, но проявляет сны и галлюцинации своих жертв. Ты желала Комбре, и он дал тебе Комбре. Не думаю, что он имеет какое-то представление о том, что это и почему ты желала сюда. Он – это набор мяса с чувственным влечением ко всему детскому, включая педофилию; все, что несет в себе какое-то отражение его сиротской судьбы – становится частью Марселя, в буквальном смысле конечно, но ничего иного ему не принадлежит. Он – это черная туча над средневековым городом, и просто анатомический парадокс дня сегодняшнего. Убей его, Матильда, время пришло.
Дева Голода. Как?
Франциск. Это твой сон и твои дворцы памяти. Но я видел здесь патефон, под его музыку вы с Джекобом Блёмом занимались любовью. Разбуди Марселя.
В этой комнате… когда-то(?), а кажется, что прямо сейчас, руки Франциска в женском воображении могут стать руками любого другого мужчины; в женском воображении руки мертвого могут становиться руками прошлого или горячими руками реальности; в женском сердце нет страха перед умершими, если умершие своими костями приводят к мужским рукам. Гертруда не могла оценить красоту систем и изящность математической тонкости; для нее Народы – оставались неясной метафорой, а Отец – парафразом предрешенности ее любви к господину Блёму. Она не осознавала происходящее реальностью или иной реальностью, скорее символическим рефреном вновь оживающей любви. Она думала, что разбудить Марселя – значит уничтожить свои разросшиеся многоступенчатые храмы, минареты которых окровавлены сомнением. Она не знала, что Марсель наделен такими же душевными свойствами, как и она сама, в этом знании не было нужды, ведь для Гертруды существовала только эта комната, существующая одновременно в настоящем и прошлом, существовала туманная связь между происходящим и гипотетическим следствием. Гертруда совершила аборт своим прошлым, но не прорыв в музыку отцовских сфер; разум ее оставлялся приземленным и нацеленным на результат; только метафоры ее были усложнены, сложностью же она прикрывала хрупкость. Здесь, в этой самой комнате. Здесь, когда-то давным-давно. В этом мифическом времени она не подозревала о существовании каких-то других существ, ее сиамское братство с Джекобом заслоняло луну от взгляда. Под Жака Бреля, под «Амстердам», они занимались любовью; они – мы! – занимались любовью, от самого словосочетания вновь холодело под ребрами; то, что слова эти были произнесены Франциском будто добавляло им правдивости, добавляло любви в это занятие, будто снова выступала на первый план реальность того, что именно на этой постели, именно с Джекобом, именно так… он дышал в ухо, так банально, так барабанят пальцы, так спина, его спина, дыхание, чудовищный такт, книги, кофе, о чем же шел разговор(?), – все это направило Гертруду к шкафу, где стоял патефон, они крутили винилы, подражая своему детству; той юности, в которой их встреча не произошла – и это было больно Гертруде – они слушали ретро и сепию, будто гуляли под руку сквозь Бранденбург, на этой самой постели – он входил в ее Бранденбург, парк под луной синеват и призрачен… вот здесь, покрутить рычажок, мир дробится на кадры, дыхание замирает, иглу посадить на черное поле, ожидание, Жак Брель, «Амстердам», она всегда плачет от этой песни. Рука замирает – секунда – и Гертруда с силой сжимает глаза, как всегда сжимает от стыда или – она убила вспоминает, что убила ребенка, когда он ушел, железная дева и крохотный Блём – и в эту минуту Франциск громко кричит «давай!», и она отпускает иглу, и Dans le port d’Amsterdam!33
33. Здесь и до конца – Jaques Brel «Amsterdam»
Руки мертвого, холодные пальцы на талии, и мертвым подбородком режет по шее, уводит Гертруду в танце по комнате и хохочет, «…началось! Началось, Au large d’Amsterdam!», и Гертруда чувствует, как музыка выскальзывает из этой тихой комнаты памяти, и несется вдоль Комбре, вдоль уснувших улиц к Марселю, и Комбре, короткие спящие улицы, и церковь отвечают Жаку неровным и страшным гулом. Там, на улице, началось… что-то началось, но Гертруда не может поверить, что это реальность; там что-то гремит, что-то бьется на площади; Гертруда в танце, все кружится перед ней, сильные руки Франциска водят ее по кругу, и хохот Франциска уже не слышен, всюду и везде этот гул, железом о железо, камнем о камни, дома отхаркивают свои стекла, стекла, как зубы, выпадают из десен на брусчатку, камни брусчатки покидают улицы, и вращаются и вращаются в смерче; там, под голодной луной Марсель, как огромная лента Мебиуса кружится над городом, силой своего вращения пытается втянуть Комбре в квадратуру своего круга. Тысячи его рук зачерпывают пустоту, мама-мама-тишина, ногти врываются в кожу, рвут ее, пальцы тянут за лоскуты, и сочится из раны на город; на ленты Марсель обрывает себя, и ленты слетают на город, на кровь, на переломанные крыши, кожа – как снег – снег и кровь, месиво на земле, крыши сдирает с черепов старых зданий, в платье из стекла и камней Марсель теряет свои фрагменты, мощные крупы мужчин и тонкие исхудавших детишек – тащит за собой уже отломанные от тела, тащит мусором и калечит стеклами, Dans le port d’Amsterdam и раздирает себе лицо, и пытается вырвать себе глаза в нежелании видеть искалеченное Комбре, а Гертруде… а Гертруде все не всерьёз, ее танцуют мужские руки, и Гертруде даже влажно от этого, она откидывает голову и представляет, что это – руки Джекоба Блёма, а над ней – крыша разлетается, и камни этой крыши, как голуби, черное небо, стропила раздроблены и щепки, как стая мух, и жужжит в сердце Гертруды, и ноги ее Dans le port d’Amsterdam, и между ними – будто в колодце – змея белесые полосы прямо над ее головой, и кровь вниз, жарко как от поцелуя, прямо на лицо, и Франциск хохочет, а затем откидывает ее на постель. Гертруда выгибается вперед, а затем приходит в себя. Женщина – в постели – и над головой ее ураган, сердце ее встревожено, дракон покрытый увечьями и струпом плачет охрово вниз, горячим на ее плечи и на ее лицо. Она что-то шепчет, вроде «это же не всерьез?», и Франциск говорит, что «всерьез», что снова, что СНОВА «Женщина убила ребенка!», и стены выламывает из суставов, костный мозг перекрытий, и снова и снова и снова Dans le port d’Amsterdam(!!!), но Гертруда не верит в Народы, и дикую гибель Марселя, наблюдая тело, изрезанное иглой патефона в дикой спирали над своей головой, в последнем полете, кричат мертвые птицы, она продолжает не видеть. «Жак Брель провоцирует детоубийство!», – хохочет Франциск, он расставляет руки и пытается поймать дождь, ладони его как в стигматах, – «…посмотри же, Матильда, как хорош Амстердам, красные улицы, красные внутренности, красная изнанка – его детской кожи!», а затем овации, когда Марсель теряет огромный кусок, и окровавленный каркас падает посреди комнаты, жилы, сухожилия в сторону, тонкие руки продолжают ощупывать пол, Гертруда что-то кричит, но Франциск успокаивает ее, «это просто конвульсии! Не бойся, Dans le port d’Amsterdam!!!»… Гертруда проваливается в темноту, ей кажется, будто кто-то целует ее, и ей страшно, что это – голое мясо из тела Марселя, одно из тысячи его раскуроченных тел, и перед ней гаснут картины умирающего Комбре, и Франциск говорит «с этим покончено…», и темнота вокруг Гертруда тошнотворна, ей чувствуется, что в теле иглы, будто она – в светонепроницаемой железной деве, гнилое мясо кормит грудью и распоротыми запястьями, пытаясь проснуться, она никак не может вырваться из железного каркаса, вынуть из тела эту боль, залатать свои дыры, и даже ощутить – пробоины в собственных органах.
Она просто женщина, она просто плачет под «Амстердам».
Амстердам немеет, сцена погружается в звонкую тишину. Обязательно, чтобы появилось чувство искусственности: камера берет Комбре крупным планом, и города, наконец, видятся игрушечными, «обломки» Марселя больше не вызывают у зрителя омерзения, и возникает чувство сочувствие, как при виде обезображенной детской игрушки. Город лежит в пятне света, и Франциск медленно движется по его улицам. Там, за его спиной рождается темнота, но не естественная, а будто темная вода затапливает сцену; темнота должна переливаться, она глянцевая, как нефть. В руке Франциска нож из рыбьих костей. Это нож милосердия и нож мародерства. Рыбьи кости имеют зазубрены, так что удар этим ножом вызывает у жертвы невыносимую боль. Лезвие не предназначено для сражения, оно должно упруго входить в грудную клетку и уничтожать внутри нее воздух; тело становится просто мешком с костями, когда Франциск своим рыбьим ножом врывается в ее покров. Этот нож не создавался для убийства, это жертвенный атам или орудие примитивного земледельческого культа, но сейчас оно применяется для изуверской жестокости рукой святого Франциска.
Темная вода или нефть льется из его штанин или из-под робы, если режиссер представляет Франциска неким религиозным деятелем34, значительно показать крупным планом, как она льется на деревянную сцену, пожирает пространство, опутывает грязью и темнотой. Не следует делать намеков на мрачную сущность Франциска, здесь он скорее – ангел вездесущего убийства, карающий удар прощения.
34. Может быть важной аллюзией, и стоит принять это замечания к сведению.
Он медленно и триумфально движется по Комбре, открывая каждую дверь. Внутри дома освещены синими фонарями, свет искажает реальность и делает ее сказочной. Перед зрителем волшебный зимний сон обитателей Комбре. Франциск посещает детские, и видит, что все колыбели пусты. По полу разбросаны игрушки и детские вещи (все они залиты, как кровью, синим светом), но все дети пропали, будто Крысолов увел их флейтой куда-то за край сцены, сбросил в оркестровую яму. Не находя детей, Франциск входит в спальни для взрослых. Мужчины и женщины спят в постелях сном мечтателей. Их лица – пусть и некрасивые – с помощью синего света и улыбок кажутся привлекательными. В их мире – нет слова «больно»; планета, в которой не существует памяти и ностальгии лежит перед ними; они спят в воображаемых объятьях своих возлюбленных; их тела не изглоданы раком. Комбре и его обитатели спят сном фантазии, они навсегда выключены из процессов реальности. Франциск разглядывает спящих, а затем ритмично втыкает нож в грудную клетку, сон переходит в смерть, но улыбки не стираются с лиц. Когда Франциск выходит из очередного дома, тот погружается в темноту, синий свет тонет в темной воде. И, наконец, все жители Комбре принесены в жертву. Больше Народы не будут служит обезболивающим.
Теперь свет выхватывает только собор. На черепице и стенах видны борозды от когтей Марселя. Кованные решетки деформированы. На двери выгравированы колокола. Франциск отпирает двери и входит внутрь.
Мраморное пространство освещено множеством свечей. Прихожане обернуты в белое. Крупным планом их пустые глазницы, возможно даже насекомые, облюбовавшие переносицу или лоб. Можно показать муху, протирающую лапки в пустом дупле носа. Еще – женщину с седыми прядями, прилипшими к влажному черепу, и то, как она «вытирает» с щек опарыша, как белую слезу. Следующим кадром идут руки мертвецов, и то, как они перебирают четки: нанизанные на проволоку бумажные шарики35. Затем – священник у алтаря, важным мне кажется его черная роба и митра (возможно, украшенная паутиной), подвижные и ЖИВЫЕ рыбьи глаза во впадинах человеческого черепа. На алтаре – с распоротым животом младенец, шкурки других младенцев, очищенные от требухи и костей, в дальнем углу. Колокол нависает прямо над мертвым тельцем, и его круглая тень пляшет на разодранном крупе. Становится ясно, куда подевались дети Комбре, но неясно – зачем.
35. Возможно, прайс-лист Рыбзавода или какого-либо религиозного учения, которое было отвергнуто. Судя по тому, что на мертвых нет никакой «морской» атрибутике, они не придерживаются – или уже не придерживаются – ни одного из распространенных в Темноводье учений.
Франциск гулким шагом идет по мрамору в сторону священника, а тот изучает его пустыми глазами.
Франциск. Я пришел завершить вас.
Священник. Мы знаем, что ты такое. Но мы больше не служим твоему Отцу.
Франциск. Чему ты служишь?
Священник. Молчаливая сестра (указывает на колокол) готова продолжать молчание, пока на ее алтарь льется кровь. Мы служим тишине, мы ищем ответ в тишине, мы позволяем людям Комбре спать в тишине. Там, пока они спят, им не нужны дети, им не нужна реальность. Мы забираем ненужное, чтобы сквозь тишину дать им необходимое.
Франциск. Молчаливая сестра хочет крови?
Священник. Она хочет кричать на весь мир, и будить даже мертвых, но согласна молчать, пока льется кровь. Теперь мы слуги тишины.
Франциск. Больше нет.
Священник. Ты не можешь испугать нас, Франциск. Я знаю тебя, мы все тебя знаем. Ты вор его последнего дыхания, ты сторожишь его тело, чтобы вырвать последний вздох. Но ты ошибаешься, ты ничего не получишь. Только тишину.
Франциск. Я здесь по Его воле.
Священник. У него нет воли. Только абсурд. Его разум породил Молчаливую сестру – колокол, который хочет крови, – разве это не абсурд?
Франциск. Даже колокола хотят крови. И он – тоже.
Священник. Нет, ему все равно. В этом величие твоего несправедливого Отца.
Франциск. Это кощунство.
Священник. Это реальность.
Франциск. Все уже подходит к концу. Вечная ночь близко.
Священник. И мы хотим встретить ее в тишине.
Множество мертвых смотрят на Франциска, на то, как он подходит к священнику вплотную, гладит его по гнилому лицу, затем втыкает в его мертвое тело свой нож. Мертвые не нарушают собственной тишины. Мертвые привыкли к бесконечной боли.
Мертвое тело шумно падает на мрамор, Молчаливая сестра начинает «шевелиться». Ее бронзовая юбка прерывает тишину, язык копошиться внутри ее тела, начинает судорожно облизывать «губы», Молчаливая сестра поднимает крик, она хочет накричаться вдоволь перед последней ночью, даже ей ясно, что скоро всему этому придет конец.
Постмортем
Время скрывает от нас друзей детства; детство скрыто от нас пеленой более густого прошлого; густое прошлое наше прошито анамнезами и ремиссиями воспоминаний; на наших больных сердцах скрепы настоящего; наши кости уже не разговаривают о высоком искусстве. Иногда время неожиданно поднимает подол, и, как бывает, когда поднимают подол, мы заворожены бликами солнца на лобке, смущение и притягательная сила, с такой силой – как первая девочка, в поле или где-то еще, зовет нас за собой, целует, потом поднимает юбку, но не дает притронуться и больше не дает поцеловать, убегает – время показывает нам себя; оно – это болезнь, своей невидимостью позволяющее оценить здоровье; там, в прошлом… там, в моем прошлом; там, в твоем прошлом… иногда эти неловкие воспоминания внезапно собираются в одно целое. Я разбросал приметы этого времени – к которому отсылаю; я рассказываю свою историю одному лишь слушателю – ее звали Анна (или Миз М.), мы познакомились(?) на как бы Монмартре, и обсуждали жизни Виана, Матисса, Бернара и Беро, – и я рассказываю историю безымянного города ей, чтобы, когда время сложило свой пазл, ей стало ясно, что город этот носит имена Гертруды, Стеллы, Ингеборг, Альбертины, Медеи и Астры, многих других женщин, в моей плоскости зрения – этот город как контурная карта с жирными линиями их точек: черная линия Ингеборг (и влюбленного в нее святого отца) и ярко-малиновая Альбертины, зеленая Венеры, небесная Медеи, карминовая – Анны. Провела меня когда-то закоулками воспоминаний, и моя история посвящена ей, включенная в список моих историй «Книги Фрагментов», сегодня моя история посвящена только ей и опирается, вероятно, только на то, что будет понятно женщине в зеленом платье с холма Монмартр, и, возможно, никому больше… нашему дыму, нашему утраченному времени, нашему непонятному знакомству, всему нашему злу, всей нашей подлости, всей полноте нашей любви к Писсаро и Преверу, – я помню наше желание бросить привычное и вместе бежать в Комбре, – каждой из нашей несбывшейся любви, всему этому я себя посвящаю, к каждому из твоих воплощений – Гертруде, Одетте, Альбертине, Медее и Эльфриде – я протягиваю себя сквозь время своим старомодным письмом нарративного толка, и воплощаю твои перемены, плавно описывая вначале одну, а затем другу, в их бесчисленных наименованиях – Гертруда, Ингеборг, Альбертина etc. с такой же легкостью, как ты меняешь платья.
…вот леди Анна, зеленое платье,
камея, подол, дорога
идет от нуля… Грюнлянд-штрассе
идет от меня – вот дорога
и стриги столичных улиц, и карнавалы
а в кармане – у меня – камешки из Монмартра
из Монмартра мои крики, я поднимаю их вертикалью
я подбрасываю их, как камни
за пазухой, обвенчены кулаками, мне не с чем иным – венчаться,
камни, ракушки, песок ах вам направо и память
93-го в черно-белом моя собака за шею ее как кольцо обнимает палец
мне сказали "—-", но я не слушал, меня уговаривали
печали колоть марксизмом, поезда направленьем "Любовь – Монмартр"
и леди Анна на станции
мы встречаемся
я отражаюсь изломанный в ее брошке
я разглядываю себя в ее платье
я временно понимаю ее
от ее вида – я стеснительно путаюсь в собственных пальцах —
я бы завязывал рукава за спиной собака погибла собака погибла(?)
я повторяю что "—-", но меня – уже не слушают
я покидаю лес собственных пальцев
я покидаю удел и камея, подол, дорога, подол метет дорогу
я провожаю ее
только взглядом и плачу потерянно в память
о складках на ее платье
зеленое, куплено – д.26, Грюнлянд-штрассе