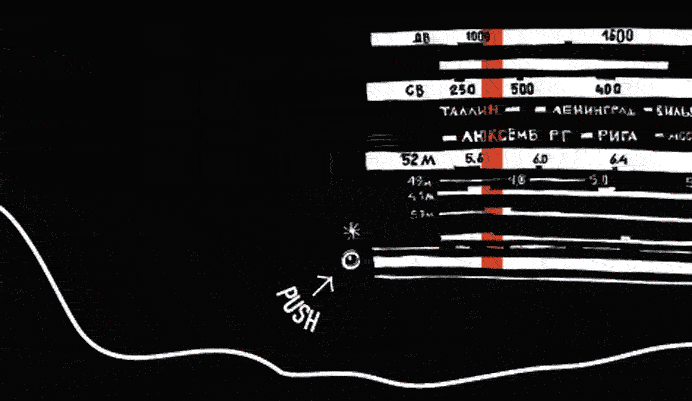Переводчик: Владимир Серых

Жизненный путь Луи-Фердинанда Селина не назовешь простым. Холодные стены Зигмарингена, вероятно, помнят своего узника, который встретился лицом к лицу с безумием двадцатого века, с войнами, изменившими облик мира. Рожденный в нищете, он постоянно боролся за лишнюю монету в кармане. Его призванием была медицина, но голод однажды заставил Селина писать. Так на свет родился Селин-писатель, плюющий в лицо классическим литературным формам, перенесший речь разговорную на листы белой бумагу. За его книгами всегда стояли тяжкий труд и бессонные ночи, которые он проводил за своим "верстаком" в бесконечной работе. Селин видел мир глазами врача: в человеке он замечал лишь телесное, внешнее; это был трезвый и объективный взгляд.
В 1951 году Селин возвратился во Францию, поселился в Медоне, где и провел остаток своих дней, изредка принимая любопытных гостей, помнящих "Путешествие…" и противоречивую славу писателя. Один из таких гостей — Артур Парино, журналист, знакомый Селина. В 1959 году постаревший писатель дал ему интервью, которое до сих пор не было переведено на русский. В нем Селин говорит о своем "ремесле", о плате за литературу, которая отбирает у него последние силы, о людях, желавших ему забвения и смерти.
А. – Артур Парино, журналист
С. – Луи-Фердинанд Селин
А. — Это Ваш письменный стол?
С. — Это мой верстак. Здесь я собираю одна за другой свои бумаги.
А. — Довольно продолжительное время Вы были доктором, но однажды решили писать. Зачем? По какой причине?
С. — Я пишу, чтобы заработать на жизнь. Это довольно трудно, ведь я был выставлен за дверь своей клиентурой. Я решил писать, чтобы купить себе квартиру, у меня её не было. В какой-то период моей жизни платить за аренду было очень проблематично. А если бы у меня была своя квартира, то мне бы не пришлось платить за аренду. Это было бы превосходно. Это – единственная причина… Я считаю, что писательство — довольно смехотворное занятие. Писатель, на мой взгляд, — это пародист, человек, который рассказывает истории, о которых его никто не просит. Очень причудливо. Но я решил узнать: смогу ли я этим обеспечить себя? Я нахожу также, что жизнь писателя со временем становится невыносимой… и что… с некоторого момента ты становишься… Итак, я нахожу, что писательство делает жизнь человека невыносимой: однажды люди узнали во мне доктора Детуш. Это был конец.
А. — Но Вы бы могли писать книги с более простыми сюжетами. Может быть, тогда Вы бы смогли продавать их большими тиражами. Вы прожили долгую жизнь и пишете о том, что пережили лично, в ваших произведениях есть определенная логика, а ваш стиль непонятен читателю. За этими литературными приемами стоят вполне конкретные идеи. А Вы представляетесь передо мной как бумагомаратель.
С. — То, что Вы сказали… Я не похож на молодых людей, которые за всё берутся, но ничего не доводят до конца. Это большая ошибка молодых, это проявляется в молодости, и это отвратительно. Я сам брался за многое, но все начинания доводил до конца. Итак… Случилось, что я попробовал себя в литературе — смехотворное слово само по себе — и я думал, что литература не имеет никакой ценности. Но когда я писал “Путешествие”, я считался с некоторыми классическими литературными формами, даже не зная их, поэтому мой роман был более или менее похож на прочую литературу. Я стал использовать многоточия, чтобы быть уверенным в том, что я двигаюсь в несколько ином направлении.
А. — Чего вы хотите добиться с помощью писательства? Поделиться своим опытом, переживаниями?
С. — О, сэр… Я смею сказать, что меня это не заботит, потому что опыт — это тусклая лампа, которая светит только тому, кто поддерживает в ней свет. Следовательно, опыт не может быть передан другим… Это очень сложно, не так ли? Понимаете, бумага — это надгробная плита. Она действительно мертва, не так ли? Эта борьба с бумагой весьма изматывает.
А. — Чтобы мы могли лучше понять ваше мнение о литературе, которое вы скрываете, не могли бы вы рассказать, что думаете о своих коллегах?
С. — Совсем ничего. Они хорошие люди… хорошие люди… или нет… Они копируют формы. Я же забочусь только о стиле. Стиль — это человек. А у них нет стиля, или их стиль позаимствован у Анатоля Франса, у других стариков.
А. — Давайте я спрошу вас о некоторых из них, чтобы мы поняли, какой стиль вы предпочитаете. Какой стиль у Мориака, Жионо, Монтерлана, например? Кто является вашим фаворитом? Кто обладает стилем?
С. — Стиль Мориака? Стиль школьного директора, который был плох в политике, да и в других вещах… Остальные?.. Я не знаю… Незначительные… Есть те, чей стиль интересен мне: я с удовольствием могу назвать имена Рамю, Морана и Барбюса. Остальные – плагиаторы… Надо сказать, что разговорная речь, зафиксированная на бумаге — как я думаю, лучший современный способ письма. Мы живем в самый пестрый, живой, эмоциональный, тревожный период за всю историю … Это больше, чем поворотный момент, я думаю… И он ещё идёт…
А. — Что для вас является основой стиля?
С. — Архитектура — это первый принцип любого искусства. Мы должны построить большой прочный дом; надо сказать, что там будут двери, крыша, дымоход, и будет ключ, чтобы человек мог туда войти, мог ходить внутри, смотреть, восхищаться, удивляться или не удивляться. И потом он должен выйти, вы запрете за ним дверь, и работа будет сделана.
А. — Но вы не ищите контактных идей, способных выразить это? Вы выкинули понятие “идеи” из своей литературы, вы не нуждаетесь в ней.
С. — О, сэр, в моей энциклопедии есть много идей. Посмотрите, какая она огромная! Там есть хорошие идеи, великолепные идеи, бог знает, сколько их там! Там есть очень прочные, очень твердые мысли, которые намного лучше тех, что я вижу во всех газетах. Более чистые, более опрятные и более невообразимые… Более веселые… Только я их выкинул, сэр. Если другие используют “идеи” в своей литературе, то, чёрт возьми, почему бы и нет? Ведь происходит немало приключений в судах, в палатах больниц, везде, черт возьми! И это я ещё не говорю о так называемых знаменитостях. Только взгляните на любую биографию, черт возьми! Эти люди прожили очень интересные и по-настоящему сложные жизни, полные гнилых приключений. Прожили, в место того, чтобы говорить о них… Это… Это глупость… Истории о рогоносцах… О девочках-матерях…
А. — В последних своих книгах, таких, как “Из замка в замок” или “Север”, вы рассказываете о жизни в Германии через призму собственного опыта. Это был особый период в вашей жизни. Почему Вы его преследуете? Вы ничего не выдумывали, не сочиняли историй, а просто рассказали о впечатлениях из коллекции ваших воспоминаний?
С. — Это похоже на то, как если бы вы спросили у летописцев Жуанвиля и Коммина, правдивы ли их книги. Они довели себя до состояния, в котором способны рассказывать истории, не так ли?.. Жуанвиль не хочет возвращаться обратно, но он делает это, не так ли? Итак, он, черт возьми, выворачивает свою кожу на стол. Потому что эти истории бесплатны. Я полагаю, вы не будете за них платить, лично платить за это ужасное дело…
А. — Как вы считаете, писатель должен пережить то, о чем он рассказывает? Он должен быть тем свидетелем, который будет убит за историю, которую хочет рассказать? Он должен испытывать боль за написанное?
С. — Вы должны платить… И не экономя, платить по-настоящему. Даже за смешные рассказы вы должны платить. Настоящий писатель переживает гибель, гонения от всего мира… Да, однажды он испытывает боль за все. Он должен будет покинуть элитное жилье, за которое отдает свою зарплату, оставить хорошие вещи, охрану, оплаченный отпуск и так далее. За все нужно действительно заплатить, хорошенько заплатить.
А. — На протяжении всей вашей жизни вы платили за литературу?
С. — Всегда… Я заплатил. Потому что у меня не было иного пути. Ведь в противном случае мне бы пришлось выдумывать какие-нибудь истории. Я прямо сейчас могу надиктовать вам в микрофон трехсотстраничный роман, я могу придумать интригу между этой дамой и этим сэром, и этой швейной машинкой, и этим парнем внизу. Это легко, не так ли? Но я не хочу. Я предпочту умереть, чем рассказывать такие истории. Это кажется мне слишком вульгарным.
А. — Однако, если сюжет ваших романов реален, если атмосфера реальна, то персонажи вымышлены?
С. — А, конечно… Этот перенос необходим. Есть большая разница между таким «переносом» и выдумкой. Она состоит в извлечении чего-то большего из того, что вы видите. Это похоже на любовь между мужчиной и женщиной; очевидно, в ней есть что-то большее, чем воспроизводство себе подобных, но это загадка, да?
А. — Писательство делает вас счастливым?
С. — Не совсем, правда, не совсем… Я с удовольствием обходился бы без этого… Потому что это противопоказано мне, я знаю это как доктор. Это губит меня. Я просто убиваю себя и об этом сожалею. Было бы лучше ходить в музеи и смотреть на хорошие вещи, выезжать на природу. Я могу с легкостью представить совершенно другую жизнь. Но я все-таки делаю это (о писательстве — прим. пер.), я должен это делать, должен выполнять это дело.
А. — Вы пишите, подчиняясь моральному долгу или оттого, что вам нужно зарабатывать?
С. — Только для того, чтобы зарабатывать.
А. — Только ради этого?
С. — Только ради этого. Я зарабатываю на жизнь, но я хочу зарабатывать на жизнь честно. Я не хочу зарабатывать на жизнь как проститутка. Поэтому я сижу за верстаком и работаю. Но, чёрт возьми, если бы судьба забросила меня в другое место, я был бы удивлен.
А. — Вы однажды сказали мне, что являетесь лучшим из ныне живущих писателей.
С. — О, все всегда говорят слишком много. Вламинк говорил: “Я лучший из всех живущих художников”. Мы не можем так говорить. Нужно быть похожим на капитана судна, который не станет обсуждать с пассажирами свое мастерство, он просто знает о нем и делает своё дело.
Я сделал очень маленькое изобретение в литературе. Я действительно не согласен с тем, что публицистика, которая сегодня говорит обо всем, “страшно поразительна”. Нет, она не страшна и не поразительна, не так ли?.. Все, что я сделал: простое, маленькое изобретение — передал устную речь на письме… Но это дается мне ценой неимоверных усилий, потому что бумага этого не хочет… Она не хочет этого… Я думаю, художники или музыканты находятся в том же состоянии… то есть… они способны переложить в устойчивое состояние дело, которое осуществлялось с энтузиазмом. Понятие “энтузиазм” пришло к нам от греков и означает: боги внутри нас. Хорошо, но только боги внутри нас не хотят, чтобы мы царапали бумагу. Сократ сказал, что письменная речь всегда была плоха. Только устная речь имеет значение. В ней есть какая-то правда. Но я сильнее Сократа, я перенес устную речь в письмо. Я сделал маленькое изменение, и получилось довольно-таки хорошо. Да, довольно-таки хорошо. Но этого можно было достичь только ужасными усилиями, которые состояли в том, чтобы острым глазом изучить восемьдесят тысяч изысканных страниц, и прозреть к концу восьмисотой или сотой, не так ли?.. А еще — работой, но вы это и сами знаете…
А. — Вы работаете каждый день?
С. — Каждый день, да… Когда могу! Я искалечен войной на семьдесят пять процентов, я получил пулю в голову, я инвалид, и эта профессия дает мне многое.
А. — Если вы позволите говорить откровенно, Луи-Фердинанд, мы знаем друг друга долгое время… У меня есть некоторое ощущение, что это все — лишь ваше кокетство…
С. — Нет-нет, это по большей части заблуждение… Я изыскан, я говорю об этом, я признаюсь в этом… Некоторые люди видятся мне тяжелыми и дрянными… А я изыскан. Я сын женщины, которая занималась кружевами, и я был воспитан на кружевах и безделушках… и я… Я всегда был развлечением для танцовщиц, я всегда был лакомым кусочком для аристократов, хоть и жил в глубокой нищете. Я боюсь аристократов, потому что они способны на все, в их поступках никогда не было никакой морали. Каждый день они доказывали мне это… Если собаки лают, значит, десять тысяч или больше — мои. Если мусор загораживает дорогу — это моя ошибка; если крысы забираются в мусорные ведра — это тоже моя ошибка. В конце концов, я знаю о гонениях очень хорошо. Будучи совсем ещё крошечным, я терпел их… Это сделало меня весьма ужасным… И я растратил свою жизнь на утонченность. По правде говоря, я чувствую, как все становится скучным… Все наскучивают мне…
А. — Дорогой Селин, вы пугаете людей своим недоверием. Несмотря также на ваше презрение к публицистике, к литературным произведениям и всем формам пропаганды, вы все же согласились принять меня и разговаривать таким образом с тысячами желающих.
С. — Мой дорогой Парино, я отвечу вам очень кратко. Я связан с мистером Галлимаром несколькими обязательствами, которые позволяют мне просить у него рекомендаций, а он связан со мной тем, что мне эти рекомендации дает. Если он не будет продавать мои книги, он будет считать убытки. Если я не буду рекламировать себя, очевидно, он не будет давать мне советы — это довольно просто. Таким образом, вы здесь, чтобы помочь мне получить эти рекомендации от мистера Галлимара. Я не могу найти лучшей причины для дружбы с вами. В продолжение к моей симпатии к вам — это, очевидно, её строго меркантильная цель, как я могу признаться.
А. — Вы презираете себя?
С. — Я не презираю себя. Я думаю, что я очень смелый, очень жертвенный. Я дал людям многое, и все, что они вернули — гнилые поступки, это все, что я от них видел. Черт возьми! Люди приходят ко мне спросить, а есть ли у меня комплексы, но я говорю, что те, кто имеет комплексы, — это люди, стоящие около меня. Но я не один из них. Я сделал для них все, что мог. Я пытался предостеречь их от войны, и я попытался придумать это маленькое изобретение… в литературе… Счастлив ли я? Нет! Я несчастен, потому что я чувствую себя жертвой их гнилых уловок, всего этого. И это не ярмарка! Я говорю об этом! Я буду умирать, утверждая, что со мной несправедливо обошлись. Я был раздет, ограблен, сброшен, оскорблен теми, кто ничего не заслуживает. И я не имею тех низких качеств, тех комплексов, которые имеют другие. Я чувствую, что все виновны! Но не я! Вот что я думаю.