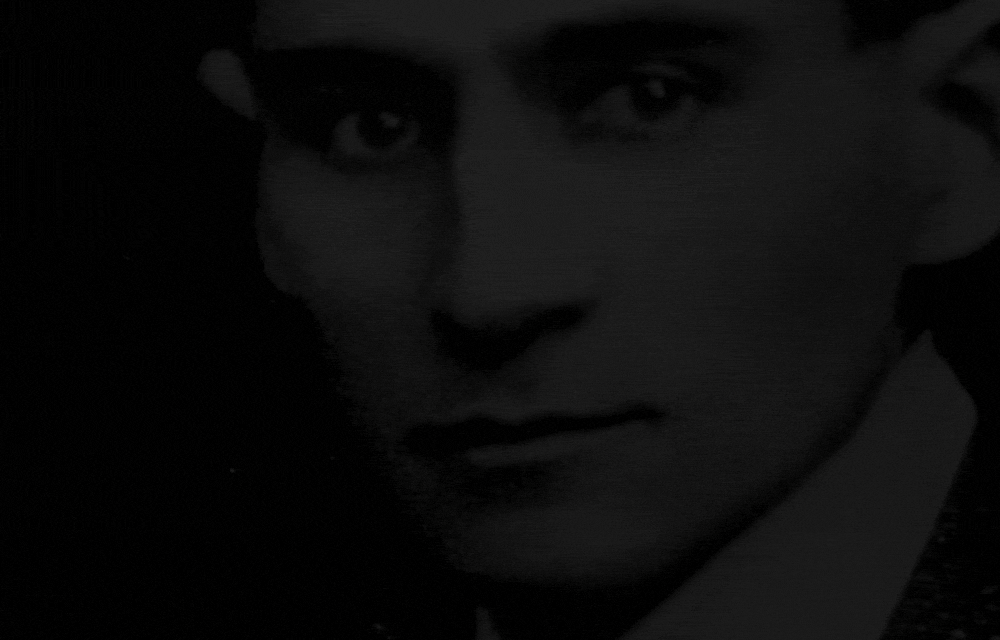Памяти четвертых стен
I
Лиза сидела на набережной, вокруг чуднело. Прохожие – все ненастные с затененной стороны – то и дело перекрывали собой каскад топившего ее ультрафиолета. Туристический сезон был далеко позади, потому местные жители, прежде взвинченные летней суматохой, вдыхали с избыточным теперь кислородом осеннюю хандру. Их обтлевшие на ветру лица догорали на подступах к гиппокампу Елизаветы. «Грустно это», – решила она (как знала, что мысль ее я так и запишу!), свела гусеничные бровки и тут же возразила: «Зато погода какая!» На этой ноте меж Фа двуногих депрессий и Ля бодрящих солнечных ванн и зазвучала заявленная странность в положении дел, тел, брусчатки и вообще.
Выцепленную у хозяйки газету Лиза расстелила под свою филейную часть. Такова была ее гражданская позиция – уже который день подряд линотип был оплеван ядом ксенофобских лозунгов. Народ готовили к чему-то грандиозно-милитаристическому. В солидарность газетам зашумели во второй половине дня грозного звука самолеты. Так некстати позади укомплектованной Лизой лавки – в изрешеченной кирпичной стене – отцвел свое китайский лимонник: отшелушивающий гул эскадрильи вынудил его сбросить шкуру прямо на голову моей героине. В ту же секунду, словно по сговору, из-за мыса вдали показался клюв громадного авианосца. Махина эта озадачила художника – чернявого, обросшего, но юного, – застолбившего уголок треногим мольбертом правее лестницы, ведущей вниз, на пляж. Он застыл с разинутым ртом, схватившись за околдованную бризом курчавую бороду, и не сразу вернулся к работе, будто позабыл пейзаж, каким он был до надругательства многотонным флотским фаллосом.
За ребрами у девушки сбилось с ритма. Чтоб упрячь дикие мысли, навеянные в том числе ночным обыском, Лиза сфокусировала внимание на симпатичном ларьке вида трехметровой кофейной чашки, в которой не то тонула, не то плескалась в свое удовольствие мужская особь продавца. Тут накатило, и она сжала зубы до боли, отозвавшейся в шилоподъязычной мышце. Точно как неделю назад, когда ветер разнес по двору пустые пластиковые бутылки.
– Етить-колотить! Откуда их столько?
– От верблюда.
Утром вторника щедрость верблюда не знала границ, а вечером Елизавету понесло – самолетом, машиной, ногами – в сторону моря; и вот она здесь, немного левее настоящего, в близлежащем прошлом, чистит яблочко новоприобретенным сувениром – опасной бритвой с гравюрой на греческий мотив, но отладим эфир.
Счищенную кожуру она тут же заправляла в рот – в утренней научно-популярной передаче ей сообщили, якобы та содержит вдвое больше полезных веществ, чем сам плод (Лиза верила не СМИ, но людям). В отличие от сахарной мякоти, рябая кожура слегка горчила. Это был Ред Чиф – осенний сорт, зимоустойчивый выводок Ред Делишес, заполонивший собой рынок с введением продовольственного эмбарго. То же произошло с копченными свиными ушками, но их Лиза не любила, а краснокожие яблоки – очень даже. И когда дошло до мякоти, она сама как бы размякла, растеклась по лавке, просочилась в щели и стала мокрым местом на мостовой, но стоило в гущу ее въехать антропоморфной юле, как тело мигом возвратилось в дояблочное состояние.
Юла была мальчиком в пестрой гавайке. Отцепив от ремня плеер, он умостил его меж досок по центру лавки, сел сам, закинул на лоб эксцентричные очки с оправой в форме двух сердец, поправил заплатку на правом глазу, ловко вытянул из-за уха бычок, вложил в губы, а другой рукой нашарил в кармане братскую могилу погорельцев – короб, полный сожженных спичек, которые тут же перемолол в пепел чечеткой пальцев, ища среди них целую; от нее он подкурил, вернул уподобленную к павшим товарищам, а их сумму метким броском отправил в жестяной саркофаг мусорного ведра. Дядя Горе казался уставшим – весь он вместе со своей гавайкой за неполную неделю выцвел в оливковый.
– Ничего не нашел. Наша хабалка и слов таких не знает.
Она поджала губы, но он не позволил фригидной тишине взять верх:
– Тебе на что, скажи?
– Диплом. «Психолингвистическое значение слов, служащих для наименования общекультурных ценностей».
– Еще раз.
– Тему такую взяла.
– Да-да. Повтори.
– «Психолингвистическое значение слов, служащих для наименования общекультурных ценностей».
– Ого, – выдыхая дым, утробно, как «оуо». – А что за слова-то? «Вера», «дружба», «колбаса»?
– Там материальные штуки в основном.
– Это я понимаю. – Замученная сигарета прижгла ему пальцы, за что была спрессована каблуком туфли. – Это само собой.
– Только без колбасы.
– То-то и оно.
Лиза вытащила из пакета целое яблоко и протянула Горю; он замотал головой, на что она невозмутимо воткнула во фрукт бритву и устроила его меж ног, спровоцировав (как и задумывалось) неосторожный взгляд. Горе, чтоб не зардеть, спохватился распутывать наушники. Это был уже пятый mp3-концерт на двоих (по числу вкладышей) и начался он с Khoiba, песни «Pathetic».
Познакомился Горе с Лизой на этой самой лавочке, когда она только приехала, в конце ее первого дня на побережье. В ней он увидел сообщника, а она в нем – спасителя. Вам ли не знать, как мелодраматичны эти встречи в развитии. Рано или поздно случается роковой диалог. Инициатором обычно выступает сударь, но в их случае начала сударыня.
– Вчера с моего мобильного ты не в банк ведь звонил, да?
Штиль. Он по-гусарски подкрутил вверх свои напомаженные усы, обратившись на мгновенье дьяволом, но Лизе отчего-то он напомнил ее деда. Этот был писателем и посвятил жизнь маскировке исторических проплешин. Парики былой действительности он собирал из подручного сырья – сфабрикованной документации, устных свидетельств, личных домыслов и прочей брехни. Параллель эта возникла оттого, что когда дед ее принимался за работу, то проделывал с усами тот же трюк.
– На тебя вышли? – спросил.
– Навестили ночью. Удостоверений не предъявляли. Сказали, что могли бы на месте меня задержать, что я террористам пособничаю.
– Но не стали.
Она кивнула.
– Что ты им сказала?
– Ничего. Так и сяк, мол, дала телефон прохожему – старику с бакенбардами до сисек. Ничем помочь не могу.
– Тебя прослушивают?
– Можешь всю меня ощупать, – сказала она с нажимом, но на этот раз Горе и бровью не повел.
– За тобой следили?
– Я петляла, не дура.
– Ты какая-то больно спокойная, кстати.
– Мне-то что? Я чиста. Это у тебя проблемы. Так кому ты звонил?
– Связному. Скажем так, – скривил рот, что смотреть противно, – запустил протокол.
– И что теперь?
– Одежды грязные и кровь открытых ран. – Из оливки в маслину. – Весь мир, охваченный безумством разрушенья. – Заведенный, он словно ненароком взвесил свободной рукой содержимое гульфика своих шорт.
– Скажи конкретно, что случится?
– Без понятия. Было приказано стрельнуть телефон, позвонить по заученному номеру и зачитать код. Больше мне знать не положено, – и загримасничал – нижнюю губу выкатил, брови повыше, плечами пожал еще, вроде как «извините».
– Ладно, верю. А когда случится, не знаешь? – Заиграла «Tonight, Tonight» The Smashing Pumpkins, и Горе, чтобы не выдать усмешки, прикусил пересохшую губу. – Ясно.
Посидели, помолчали, размагнитились. Он наконец перебил шум прибоя:
– Помнишь, я тебе втирал про политических вампиров. Нинисты называют их нацсосами. Кровь национальности – это ее самобытность, понимаешь? Любые спекуляции с ней – через пропаганду в частности – уничижают ее. Вот сейчас политиканы народ выжали досуха, родились революционные настроения, а революция с нашим-то режимом творится не на улицах, а в головах. Вот как тебе объяснить? Сидишь ты, например, в темнице на скудном пайке, а до безобразия жирная стража еще и хлеб твой подъедает. Ты злишься, рвешь и мечешь, но все в пределах клетки. Разбазариваешь ярость. Вот в никуда. Это даже не сама революция, а осознание ее невозможности. Победа режима. Неотвратимость ее того же толка, что и у смерти. Так и получается, что единственный выход из скованного положения – открытая война с внешним врагом. Когда большинство уяснит, что бойни как таковой не миновать, они пойдут путем меньшей крови – крови ненавистной еще в мирное время элиты. Так победим.
– Люди погибнут!
Горе, как умел, отмахнулся от чужой, назойливой правды.
– Ты мою позицию знаешь: живем на могильнике и пляшем диско под похоронный марш. Последними по-настоящему живыми людьми были древние греки, да и те – через одного. Мы-то все заводные покойнички, все до единого. И когда наш брат умирает, я пожимаю плечами. Заглох, говорю и вздыхаю траурным выхлопом. Да и по чесноку – политика мне до лампочки. Новые нинисты – стадо баранов, а я, – наползла ухмылка, – я работаю напрямую с руководством. Там говорят: бог мертв, а посему организация Страшного суда перепоручена нам, убогим смертным, – договаривает Горе и выпячивает подбородок; надо думать, чтобы больше походить на полумесяц в профиле.
Порядочному писателю не пристало озвучивать (а точнее – описывать) мысли персонажей, но оба они – и самим вам об этом было не догадаться – думали вовсе не о предстоящей третьей мировой, а сожалели о своем несостоявшемся курортном романе. Горе чуть погодя выискался:
– Ты можешь обвинить меня в радикализме, а я тебя в пассивности.
– Мы это вчера обсуждали. Я буддистка.
– Понятно все, – и фыркнул. – Я так тебе скажу: в русском языке все дзен-буддистские премудрости элементарно укладывается в одно единственное слово – пофигизм, ну и его отлагательные, и матерные аналоги.
– Как ты его толкуешь… Это человеколюбивое учение. Исповедуй его элита твоя, случилась бы утопия.
– Случилась бы апатия. Большинство буддистов отождествляют себя с мертвецами. А элита, будучи живее всех живых, исповедует конфликты.
– И каждый раз, когда держатели ссорятся всерьез, разыгрывается натурально библейский сюжет, в котором счет святых мучеников – детей-то божьих – идет на миллионы.
– Ну, подруга! Риторика у тебя, конечно, сталинская.
– Чего это «сталинская»? Вполне себе христианская, раз на то пошло. Это негуманно, в конце концов.
– Идеалы лоббируются, милочка. В вокабулярии гуманизма тоже есть слово «нетерпимость».
Мимо проплыла мускусная тучка октябрьских туристов – три ворсистых брюхана и не счесть сколько одним цветом окрашенных девиц. Провожая их взглядом, Горе впервые заметил художника, который принялся вписывать в свою едва ли не фотореалистичную панораму гротескный авианосец.
– Да это не художник, а демагог! Нет бы заседал-голосовал, а то краски переводит. Лицо-то знакомое. Не исключено, что корифей, а мажет вхолостую.
Сам корабль отплыл уже так далеко, что только его хвост с берега и видели.
– Капитализм надо чинить, а не геноцид учинять. Ты же экономист, але! Должен понимать.
– Э! Заминка вышла. Медик я, так что вертел я ваш капитализм, мисс Хомски. Игрок, ты хотела сказать. И вот что я понял, играя на бирже: важно не то, что мы имеем, а кого мы имеем, а уж что и сколько имеют те, кого мы имеем, – вот это обладает первостепенным значением. – Полемическое бессилие выступило потом на Горемычном лбу.
– Что-то ты не в те степи ушел. Отдохни.
Художник плюнул на живопись и пошел пинать гальку. Горе переключил плеер на «The Apocalypse Song» St. Vincent, прокрутил кольцо на безымянном пальце, просох и принял демонстративно непринужденную позу.
– Что-то есть между нами, как думаешь?
– Ты заметил? Я тоже ощутила чье-то присутствие. – Тут я сам вспотел.
– Да не про это я. Проехали. Слышала про эффект Манделы? Говорят, Джоконду как подменили. Улыбаться стала шире.
– Мона Лиза что ли? Ну, я видела две копии. Одна – девятнадцатого, а другая – восемнадцатого века. Там везде палитра разная. Видно, как выцветал оригинал.
– Нет, ты не рубишь фишку. Суть в том, что мы типа в параллельной реальности, где всякие мелочи подменили высшие силы.
– Прости, что?
Тут раздался шум. Походящий на вой, он возник с диареической внезапностью и исходил, казалось, отовсюду. Прохожие настороженно замерли. С парковки тревожной сирене подпевали сработавшие автомобильные сигнализации. Откуда-то сзади вылетели и понеслись в сторону моря три боевых самолета. Один – таких Лиза еще не видела – держался впереди, когда два других, маневрируя, его нагоняли. Этот первый, пролетая над отечественной авиаматкой, резко сменил курс, сбросив на нее нечто, напоминавшее с дальнего расстояния семечко подсолнуха. Последние сомнения зрителей развеялись, когда один из них – самый догадливый – истошно возопил: «Господи помилуй! Да это же бомба!»
Наблюдая, как адский механизм набирает скорость, Горе вжался в лавку, что было сил, а Лиза напротив – подскочила на месте, да так, что из-под юбки вывалился и повис на тонюсеньком проводе микрофон прослушивающего устройства. Воцарилась паника, а вот что было дальше я, честно говоря, так и не придумал.
II
Это письмецо, которое вы сейчас читаете, было никудышным. Я его укорачивал, пока не осталось строк двадцать, потом смял и выкинул в ведро. Теперь достал, расправил и дописываю сверху. Чего юлить?
В стенах завелись мыши. Одну я точно слышу. Этот шорох изводит меня все то время, что я пишу рассказ – высекаю афоризмы на вашу милость, уподобляю, как могу, диалог платоновскому стилю и шифрую доктрины. И что же интересного могло произойти за кульминацией? Моим героям наверняка конец – сгорели в лоне термоядерной поганки. Так я решил, когда подумывал обвести красным то, что Лиза все-таки сотрудничала со спецслужбами – достаточно поправить в двух местах словесную перестрелку, и выйдет история женского коварства с таким окончанием, в котором читателю никого не жалко, – оба героя как-никак идиоты. Или, например, научно-фантастический твист – спустя десяток столетий сознания Лизы и Агапова реконструируют внутри сложной нейросети. Оцифрованные, они оказываются в имитации: сидят на той же самой лавке, у нее микрофон висит между ног, он надул в шорты, но смысловой кредит их прений аннулирован. Заканчивался бы текст на комичной ноте: «Кончился мир, каким мы его знали, и только художник как ни в чем не бывало пинал себе пляжную гальку». Но сами понимаете: сатира – такое дело сиюминутное, что жалко на нее слова переводить. Да и не полагается Агапову умирать, когда только выяснилось, что он пережил обрушение Бамбукового дома. В последнем варианте занавеса (все капканы расставлены сейчас под это) Лиза выхватила бритву из яблочных ножен и, сокрушив четвертую стену, вонзила мне в спину со словами: «Получай, постмодернитутка!» Я крякнул да помер, а они, недобитые мной, остались жить.
На самом деле, я так замесил развязку, чтобы репрезентовать вам песню Khoiba, которая мне самому очень нравится (отсюда этот «mp3-концерт»), но дело зашло слишком далеко, – теперь я вымучен этой новеллой. Лучше бы шел в рекламу, как мама велела. Серьезно. Я уже писал это где-то, но повторюсь: если воссоздание действительности – конечная цель всего миметического, то тексту надо на пенсию[1]. Его невозможно всерьез представить в авангарде современных искусств. Кино, театр – еще да, но писанину – куда там!
III
Нет, отказываюсь верить, что художественный текст изжил себя как форма, но аполлоновы передовицы он покинул однозначно. Сегодня он осмысляет себя в частном порядке, далеко за пределами масскульта. Кажется, с формой ничего по-настоящему громкого и прорывного не было со времен «Дома листьев» Данилевского, а вышел он в самом начале нулевых. Мне тут еще мышь подсказывает, что едва ли Данилевский был оригинален, – Уильям Гэсс до него полиграфию в нарратив вмонтировал.
На чем смелость расцвела – на том и высохла. Метатекст – на Кальвино и Борхесе; деконструкция – на Сорокине и Уолтере Абише. Пишут вот, что «Памяти памяти» Степановой и «Июнь» Быкова – экспериментальные романы. Если так, то эксперименты измельчали. Вот «Квартал» у Быкова – это да, это было неизбито. На мой взгляд, литературе срочно надо в пространство акционизма, а нам – принять фокус как самоцель и изобрести жанр перформативного романа, а не лезть туда, где лучше справляются иные художественные языки, ведь как – когда фотография стала общедоступной, живопись уступила ей поле реализма, а сама обратилась к бытовой несбыточности, потому заплодоносил модернизм на холстах (дадаизм, сюрреализм, кубизм и далее по списку). Фотография стала изобретательнее с развитием кино, и тому уже дышат в спину видеоигры. И везде творцы изворачиваются, ищут нестандартные подходы. А литература где?
– Литература в консервной банке! Дай-дай!
Это снова мышь. И та понимает. Мысли не нужен сюжет, не нужен герой. Углубляют ее не мораль и драма, а свежесть и точность. Один Рома Смирнов понимает и за всех отдувается. Я так думаю, что если наш брат и дальше будет подражать аудиовизуальному и ранее написанному вместо того, чтобы в полном объеме пользоваться той свободой, которую дают буквы на бумаге, литературе наступит исторический пиздец.
IV
Что? Смутило словцо? Припоминаю сейчас одного нелюбимого писаку. Он накатал эссе, в котором утверждал приблизительно следующее: обсценная лексика низводит художественную значимость вообще всякого творения до уровня трех заветных букв на заборе. Многоуважаемый ретроград и рамочник – один из многих, кто подписал петицию за введение в эстетику комендантского часа. Выдохся и душит молодых, а искусство, напоминаю, зиждется на подражании действительности. Разве возможно от действительности отчленить какой-то кусок? Мы, конечно, можем что угодно перефразировать или аккуратно обойти – написать мир, в котором неудобной этой частности не будет места, – но вырезать с корнем!.. Сейчас этот дед помрет, его канонизируют, а потом за одно терпкое слово дирекция литературной Вальхаллы отрядит вас куда пониже. Что тут попишешь, если в нашей стране ссылка на хуй – это что-то вроде дружеского напутствия? Смешно, но дико. Зло берет, мнет, жмет и треплет. Но! Не буду волноваться – я вот не буду волноваться – возьму себя в руки и не буду волноваться – буду спокоен, невозмутим и не буду волноваться…
На берегах словесности!
ХУЙ там был:
и на песке лежал,
и в море плавать выходил.
Так, мышь совсем обнаглела. Она просовывает свой дрожащий нос меж палок люминесцентных ламп прямо над моей головой – выцеливает пачку соленых сухарей на столе. Я все жду, когда она свалится вниз, чтобы спустить на нее кота. Итак, с учетом всего обозначенного выше, как бы мне закончить историю?.. Вот опять! В ее голодном присутствии я не могу писать! Да и не буду.
А рассказ был все-таки о том, что правый и левый никогда друг друга не поймут и не потрахаются, хотя им обоим очень хочется.
[1] Очевидно (но не для академиков), в таком разрезе наиболее прогрессивным направлением искусств являются видеоигры, которые пока лишь уплотняют и дополняют реальность, как и прочие художественные языки, но с развитием искусственного интеллекта смогут ее продублировать. Культурологи уже разбирают продукты игропрома в рамках дисциплины людологии и потихоньку передают эстафету искусствоведам.