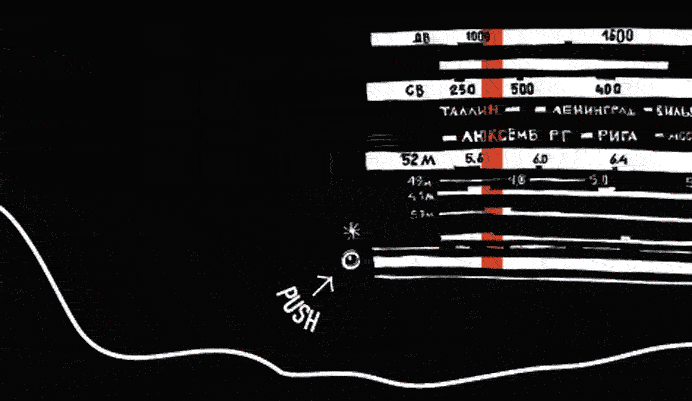Интервью с Францем Кафкой
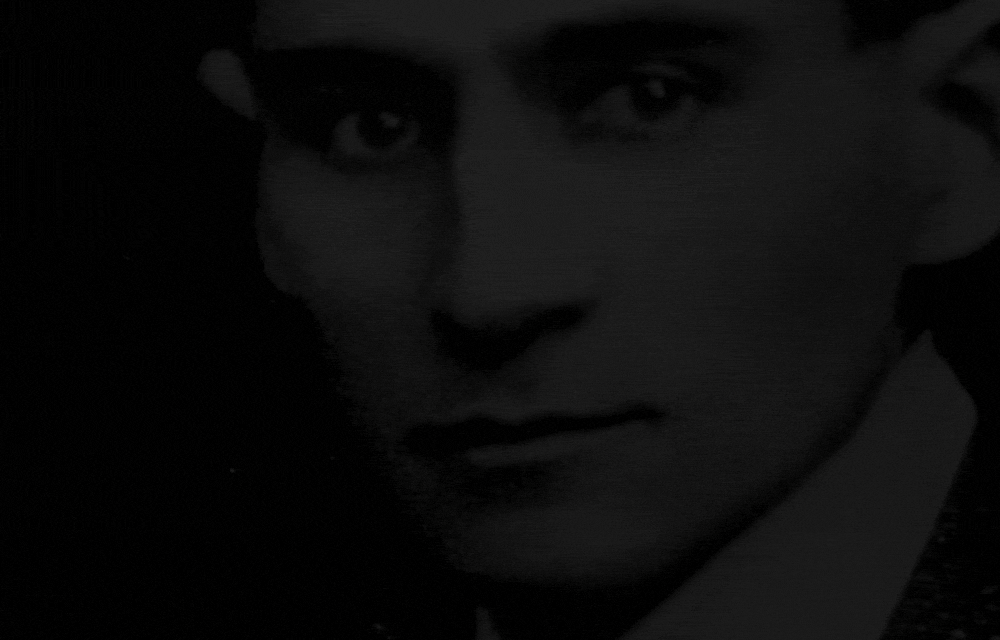
Предисловие:
Судьба любого автора – умереть. Не пересилив физиологию, но де-факто победив ее, будучи если не живым, то уж точно немертвым – за счет оставленных текстов и прочих результатов мыслительного процесса. Чтение само по себе рождает диалог с автором – взявшись именно за эту мысль, мы запускаем формат «Покойного голоса».
Что бы, к примеру, сказал Франц Кафка, если бы оказался напротив человека, которому уже доподлинно известно его посмертное величие? Это интервью не должно было случиться, но под руку попалась не то доска Уиджи, не то машина времени.
— Скоро почти век, как осложнение туберкулеза и последующее истощение загнали тебя в гроб. Что изменилось для тебя за это время?
Оказалось, что «смерть» может быть глаголом, раз я здесь. Как это по-русски? Хирею.
— Смерть от истощения – это, конечно, в твоем стиле, но такой ли ты представлял свою смерть?
Могло показаться, что я был столь увлечен умиранием, что не сильно конкретизировал свой финал в фантазиях.
Представлял, что это ужасно – умереть взрослым. Но было бы еще страшнее покончить с собой. Уйти из жизни в полном смятении, которое имело бы смысл, если бы ему суждено было продлиться, утратив все надежды, кроме одной-единственной, что по великому счету твое появление на свет будет считаться как бы несостоявшимся.
Покончить с собой значило бы не что иное, как погрузить Ничто в Ничто, но чувства не могли бы с этим примириться, ибо можно ли, даже ощущая себя как Ничто, сознательно погрузить себя в Ничто, ничто не просто в пустое Ничто, а в Ничто бурлящее, чье ничтожество состоит лишь в его непостижимости.
— Ты заговорил про суицид — наверняка не раз задумывался на этот счет?
Однажды в полусне представил себе сцену, которая произошла бы, если бы я в предвидении конца с прощальным письмом в кармане пришел к своей женщине на квартиру и, получив отказ как жених, положил письмо на стол, подошел к балкону, вырвался от всех, кинувшихся ко мне и пытающихся удержать меня, и, отнимая руки – одну за другой – от балконных перил, перемахнул через них. В письме было бы, однако, написано, что, хотя я и бросился вниз из-за нее, ничего существенно не изменилось бы для меня, если б мое предложение приняли.
Я обречен, я не вижу другого исхода, Фелиция случайно оказалась тем, на чем подтвердилось это предначертание, я не могу жить без нее и должен броситься вниз, но и с нею – и она чувствует это – я не смог бы жить. Так почему не сделать этого нынешней ночью? Я заранее представляю себе болтливых гостей, которые придут сегодня вечером к родителям, они будут разглагольствовать о жизни и о том, какие условия необходимо создать для нее, – но я прикован к общепринятому, живу, целиком увязнув в жизни, я не сделаю этого, я совершенно холоден, мне грустно оттого, что ворот рубашки давит мне шею, я проклят, задыхаюсь в тумане.
— Как раз хотел к этому подойти. Правдой ли будет утверждение, что катализатором твоего творчества и хворотьбы являются женщины, да отец? Если так, то кто сыграл большую роль?
Скорее, отец. Мои отношения с людьми за пределами семейного круга пострадали от отцовского влияния насколько это только возможно. Он считал, что для других людей я из любви и преданности делаю все, а для него и семьи из-за равнодушия и измены не делаю ничего. В десятый раз повторяю: я бы, наверное, все равно стал нелюдимым и робким, но отсюда еще долгий, туманный путь туда, где я оказался в действительности.
Я потерял веру в себя, зато приобрел безграничное чувство вины.
— Правильно ли я понимаю, что речь не только о влиянии на твои отношения с женщинами, а в целом – с людьми, внешним миром?
Каждого, с кем я общался, он открыто или втайне в чем-нибудь упрекал, – также и за это мне нужно было добиваться прощения. Недоверие к большинству людей, которое он пытался внушить мне и которое странным образом не особенно тяготило его, – это недоверие, которое в моих детских глазах ни в чем не получало подтверждения, так как вокруг я видел лишь недосягаемо прекрасных людей, превращалось для меня в недоверие к самому себе и постоянный страх перед всеми остальными.
— Какую роль сыграл отец в том, кем ты стал?
Само собой, мощную. Но я не говорю, что стал таким, какой я есть, только из-за его воздействия. Это было бы сильным преувеличением (и у меня даже есть склонность к такому преувеличению).
— Он любил тебя?
Да.
— Но в чем тогда его проблема?
Как-то раз он сказал: «Я всегда любил тебя, хотя внешне не обращался с тобой так, как другие отцы, но это потому, что я не умею притворяться, как другие».
Ну, в общем-то, я никогда не сомневался в его добром ко мне отношении, но эти слова я считаю неверными. Он не умеет притворяться, это верно, но лишь на этом основании утверждать, что другие отцы притворяются, – значит или проявить не внемлющую никаким доводам нетерпимость, или – что, по моему мнению, соответствует действительности – косвенно признать, что между нами что-то не в порядке и повинен в этом не только я, но и он, хотя и невольно.
— Окей, довольно про отца, давай про женщин. Правда ли, что твой первый раз был в юношестве со служанкой?
С гувернанткой, что была приглашена для воспитания моих сестер? Ничего не случилось. То ли избежав, то ли упустив ее инициативу. Чуть позже я был убежден, что она хотела воспользоваться моим возбуждением, но я ее возбуждением пользоваться не стал.
— Или не смог?
Или не смог.
— В этом ведь сыграл свою роль и Лев Николаевич?
Да, она подошла ко мне под предлогом подарка книги «Крейцерова соната» Толстого, настроение которой очень точно совпало с моим на тот момент.
— Можно ли интимную близость назвать больной темой для тебя?
Эпизодично, так. Когда-то один вид супружеской постели, мятых простынь, заботливо приготовленных ночных сорочек вызывали у меня отвращение, доходящее до рвоты, выворачивающей наружу все мое нутро, мне начинало казаться, будто я окончательно не родился, должен снова и снова появляться на свет среди затхлой жизни этой затхлой комнаты, снова и снова подтверждать в ней своё существование, я неразрывно связан с этими отвратительными вещами, если не целиком и полностью, то, по крайней мере, частично, во всяком случае, это путы на моих ногах, которые хотят убежать, но завязли в первозданном бесформенном месиве.
Позже мои взгляды видоизменялись до прямо противоположных, что казалось: жениться, создать семью, принять всех рождающихся детей, сохранить их в этом неустойчивом мире и даже повести вперед – это самое большое благо, которое дано человеку.
— С какими русскими писателями, кроме вышеупомянутого Толстого, знаком – кто любим, оказал влияние на тебя?
Кроме Толстого – Достоевский, Герцен, Кропоткин, Кузмин. Если навскидку.
— Согласен ли с Бродом, что в произведениях Достоевского слишком много душевнобольных?
Совершенно нет. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характеристики, причем средство очень мягкое и очень действенное. Например, если постоянно и очень настойчиво твердить человеку, что он ограничен и туп, то, если только в нем есть зерно достоевщины, это подстрекнет его проявить все свои возможности.
С этой точки зрения характеризующие его слова имеют примерно то же значение, что и бранные слова, которыми обмениваются друзья. Когда они говорят: «Ты дурак», то это не означает, что тот, кому это адресовано, действительно дурак и они унизили себя дружбой с ним; чаще всего – если это не просто шутка, но даже и в таком случае – это заключает в себе бесконечное переплетение разных смыслов.
Так, например, отец братьев Карамазовых отнюдь не дурак – он очень умный, почти равный по уму Ивану, но злой человек, и, во всяком случае, он умнее, к примеру, своего не разоблачаемого рассказчиком двоюродного брата или племянника, помещика, который считает себя настолько выше его.
— Музей имени тебя в Праге – полное говно. Согласишься?
Конечно.
— Спасибо, идем дальше. Как повлияло писательство на твою жизнь?
С литературной точки зрения моя судьба очень проста. Желание изобразить мою исполненную фантазий внутреннюю жизнь сделало несущественным все другое, которое потому и хирело самым плачевным образом.
— Опиши свой опыт непосредственного написательства.
Если усреднять, то чаще всего практически ни одно слово, что я писал, не сочеталось с другим: я слышу, как согласные с металлическим лязгом трутся друг о друга, а гласные подпевают им, как негры на подмостках. Сомнения кольцом окружают каждое слово, я вижу их раньше, чем само слово, да что я говорю! – я вообще не вижу слова, я выдумываю его. Но это еще было бы не самым большим несчастьем, если бы я мог выдумывать слова, которые развеяли бы трупный запах, чтобы он не ударял сразу в нос мне и читателю.
Когда я садился за письменный стол, то чувствовал себя не лучше человека, падающего и ломающего себе обе ноги в потоке транспорта на Place de I'Opera. Все экипажи тихо, несмотря на производимый ими шум, устремляются со всех сторон во все стороны, но порядок, лучший, чем его мог бы навести полицейский, устанавливает боль этого человека, которая закрывает ему глаза и опустошает площадь и улицы, – не поворачивая машин обратно. Полнота жизни причиняет ему боль, ибо он ведь тормозит движение, но и пустота не менее мучительна, ибо она отдает его во власть боли.
— Давай блиц, вопрос-ответ?
Попробуем.
— Как бы ты охарактеризовал свой опыт написания критических работ?
Непродолжительный.
— Дай какой-нибудь совет юным писателям, что заваливают нас бесконечными рассказами?
Не переоценивать написанного ими, иначе они не напишут того, что им еще предстоит написать.
— Как тебе формат нашего интервью?
Данте делал подобное еще в «Божественной комедии», разве что не в жанре публицистики, но тем проще. Спасибо, что не «правила жизни».
— Какое желание ты так и не успел исполнить при жизни?
Так и не переехал в Берлин.
— Но…
Переехал слишком поздно, так точней.
— Жалеешь ли о том, что твои работы и письма были опубликованы Максом и ты стал всемирно известен и почитаем?
Об этом вы никогда не узнаете.
* * *
Интервью построено как на дословном цитировании, так и авторской интерпретации разной степени вольности