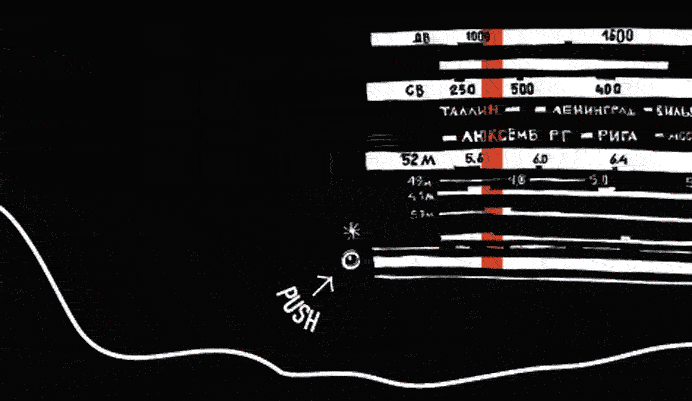Ступающий по смоляному асфальту господин П. замедлил шаг. Приспустив слегка вздернутый нос в землю, словно старый одинец кабан, пыхтящий и вынюхивающий незнакомую, но съедобную фиговину, кусавши маленькие юродивые губки, П. увлеченно и даже как-то впавши в ступор, зыркал на неопределенный, как он выразился, предмет. Чуть преклонившись и мельком дотрагиваясь до шершавой кожи, поглаживая малоизвестную вещицу с кое-каким удивительным уважением, вещицу, на которой он, собственно, стоял, поместившую его — человека преобразованного и даже не душевнобольного в полный тупик — он, как все прелюбопытнейшие создания, заинтересованно вынюхивал, как бы ни хотелось выразиться вульгарно, но так оно и было – вынюхивал в самом что ни на есть натуральном виде образ чего-то такого диковинного. И даже не задумывался в данную минуту, как это происходило обычно в окружении его постояльцев, что если хоть кто-то подсмотрит и уловить его непонимание, гуляющее по лицу, то будет он скомпрометирован, а все из-за штукенции, по которой расхаживал. То ли был П. крайне глубоко задумчив о чем-то постороннем, облизывая свой пытливый лоб, то ли был занят самым непосредственным изучением вещицы, растекшейся под ногами, но не проскочило у него и крохотной идеи о том, что он как-то нелепо выглядит, распыляясь на не умные замечания, ни мысли о мнении со стороны не было хоть где-то да около, хотя и не мог даже краешком распознать разглядываемую вещь, что было как-то некстати, даже как-то обидно было господину П. оказаться в таком престранном положеньице.
Казалось бы, каким может быть асфальт? Но П. никогда не приходилось слышать об этом, как он смел заметить, черноволосом панцире. Не то чтобы он был необразованным, как вероятно процедили бы некоторые из ныне теснящихся башковитых и до боли заинтересованных в чуждых пониманиях вещей публик, а никогда в глаза и не видел он этого пресловутого объекта обыденности. Застать господину П. еще не пришлось эту удивительную смесь битумов с кое-каким количеством минеральных материалов, да-да, время было не то – другим столетием был П. выкован. А сейчас во сне он находился, наблюдая за черноволосой диковиной, что есть немаловажный предмет для объяснений неосведомленности некоторых лиц уже известных, прогуливающихся и осматривающих колоритные местности закордонного города, а смотрели то они внимательно, с большей долей, так скажем, заинтригованности, на предстающие их глазу заморские убранства, нежели чем с пугливостью, коя могла бы присутствовала у других. Да и пейзажи представлялись здесь главным образом симпатичные, не веяло от них какой-то покалывающей изменчивой чужбиной. Конечно, что-то поменялось за тот приличный обрывок времени —между тем местом, откуда был непосредственно господин П. и сном,— но даже эти немаловажные изменения были как-никак кстати человеческой натуре и нечего было этому даже хоть как-то да удивляться.
Надо полагать, простоял бы он на этом самом месте, на заурядном и мало того поднадоевшем жителям городка К. асфальте, еще долгое время. Но ветер уже небрежно шагнул на вересковые пустоши его басисто-мраморных бровей, плавно распустил красноречивые лилии глаз, и, облаянная душным предзнаменованием грозы горная цепь, начертилась перед дымчато-серым взором, сквозь растущее рядом, в упитанной цветами клумбе, древо.
Нефритовые крылышки, точечно прилипшие к статным ладоням фигурной мачты, блистали отпечатком лунного софита на празеленой бронзовке с жирно-блестящим металлическим окрасом и гренадиновым бликом крадущегося брюшка восхода. Лисий хвост эфира распушался, приобнимая озябшие верхушки дюжей спины, исполосованной хлесткими взвизгами вырубки; в сгорбленной от потуги гряде рыжебородые повязки серповидных штампов вбирали кровоточащие толстосумые недра. Изумрудная шерсть животного повсеместно была в пунцовых бинтах, в некоторых местах застарелые нарывы покрылись травным пухом, в других же поселились сгустки шагающих верхом на размытых крышах фатеров.
Здесь на краю писчей бумаги образовалось нескладной выкройки пятно, и сладкоголосая птица вдруг выпорхнула из невысокой травы, певуче протаранила воздушный клубок музыкальных инструментов, и словно выпутываясь из чистых, как слеза струн, чуть дернула правым распушившимся крылышком, вывернув в щебечущую ширь.
Тут то господин П. кое-что и припомнил. Да так, что ахнул вместе с тем и сбил свой – Ах! – икотой, которая вдруг откуда-то проскочила через висевшее разбитое молнией легочное деревце прямиком из его купольных фасадов диафрагмы.
–Зараза этакая, не хватало еще и икоту нам в собственный сон, ах! – Ик! — он снова икнул и залился вымученно бухать, пытаясь продраить запыленное дыхало, будто проходился по горлу желтоватой канифолью или ритмично наминал себя плетеным ротангом. – Кхе, кхе! — Да, — протянул П., — Кашлем, батенька, здесь не превозмочь. А если вдруг представить, что икоты этой вовсе и нет? – от пытки он даже и глаза зажмурил, а когда их приоткрыл, то тут же услышал чей-то упрямый и протяжный ответ: — И-иик. – А! Да черт бы вас подрал, что же это за сон такой глупый, а? Где же это видано, чтобы во сне и с икотой!
Бесновато выбивая неврастенические жесты глотки, перебирая в голове всю галантерею ругательств, кои были начищены до торгового мреяния, он зацепился за некоторые прибрежные обстоятельства, и, заштилевав напротив мергельных берегов воспоминаний, откуда кто-то ему салютировал, унялся что-то припоминая. Сновидение казалось крайне знакомым господину П. Та же горная цепь в кушаке начинающегося восхода, та же птица таким знакомым голоском куснула ухо и пропала; было здесь что-то отчасти странное, отчасти укачивающее, слишком уж много фантастического вдруг вылилось на голову П., сам он это так же прекрасно заприметил. Начал он уже приходить в себя, когда вдруг проскочила у него в голове самая замечательная за сон мысль.
-Батюшки! Да мы сон этот не впервые видим, второй, а то и третий раз видим этот сон! Ах! Припоминаем, припоминаем, да это же в этом сне…! И-иик! Так это же что же, и-иик, да плевать на эту икоту, она сейчас вмиг пропадет – и это помним, и это! – прикрикивал он от радости. Еще секундочку потерпеть, потрепетать только нужно; да мы же уже трепещем от восторга, чего же тут ждать!
И, как и говорил господин П., икота в миг пропала, и не резвые, и, даже в определенной степени шероховатые возгласы, а одна очень важная точка, воцаряющаяся среди спящего вороха домишек пригрозила всхлипам грудины, и, уже припомнив все отчетливо – все чуждое вдруг перевернулось с ног на голову, и даже некоторые гаденькие качества вдруг проявились на лице П.—, и, так сказать, уже убедившись в присутствии этой важной миниатюрины, что была именно миниаютриной и ничем больше, ведь осела она далековато от того места, где находился господин П., только и в бинокль можно было бы усмотреть некоторые своды точки приятной формы, он ускорил шажок, надеясь успеть к месту до полного восхода солнца, надеясь на то, что после его нескольких шажков, которые он уже совершил, и собирался совершить еще приличное количество, точка никуда не пропадет и после последующих. Может быть, и поэтому он шел как-то неуклюже, то ли боясь спугнуть чуть слышно приближающееся место, то ли из-за самого непосредственного волнения от убежденности в том, что покорная малознакомая, но очень важная точка, и сама дожидается П.
То был монолитный аквамариново-белый воксалъ. Этого наименования, или правильнее сказать названия, господин П. никогда и слышать не слышал, а если бы и слышал, то сказал бы что-то такое дурное, что вокзала больше бы и не было вовсе, — Не поэтично ведь звучит! Но заинтересовать он, конечно, заинтересовал П., а увлеченным чем-либо, кроме себя, он был крайне редко, даже во сне. Да и знал уже господин П. то, что в скором времени должен будет увидеть и услышать, на последнее слово он ставил больший акцент: услышать!, ведь уже не впервой ему было проявляться сонным духом среди этого абриса заморской внешности, и наблюдать что-то такое диковинное, доселе не виданное и не слышанное им. И был он в этот раз даже излишне воскрыленным, был полностью уверен в том, что все произойдет точно по намеченному, хотя в самой глубине души просыпались желторотые сомнения, стесняющие приятное чаяние, хоть и появился он уже тут и тянулся вот тут на сереньком асфальте среди всего этого коловращения событий. И уже начал он даже внутренне совершать свой одинокий променад по малоизвестным улочкам, и как-то не заметил и не припомнил и того, что в прошлый раз, однако, сомневался чуточку больше, сейчас же был как-то запыхавшись счастлив, спускаясь по асфальтированному покрытию плывущих дорожек, что целовали накренившиеся к их телу соцветия куртины.
— Если подумать, — выронил П., продираясь по пустынному спуску семенящими ножками, облизывая потрескавшиеся губищи, которые словно заиндевели на краях стакана, пририсовывая нескладным очертаниям грановитости кровоподтеки — на кой лад, да и кому, собственно, понадобилось вдруг выдергивать нас из этого сна? Ну не может же быть такого, чтобы кому-то было нужно или возможно нас вытащить, это же глупости какие! А пейзажи тут…Мастёвые пейзажи! Да мы за один звук приближающейся рыбины отдали бы полжизни, – в этом месте П. холодно приубавил разгоревшийся пыл, притушив его скрученностью лица, походившего отдаленно на половую тряпью, и прозондированным потом, пробежавшим струйкой по спине, кою он протер речистой ладонью, как бы оправдываясь и между тем возвращая свой первозданный вид. Это мы, конечно, погорячились, ей богу, не полжизни — пару зим лишились бы, кхе-кхе, а то раз и сляжем на свою голову (да на чью же еще?), полжизни то уже точно батенька прожили, верно говорю, или не верно? Пожить бы еще хотелось, конечно, да и отказаться от этих пейзажей то можно. Жалко их терять только, но пожить все-таки дороже, покрепче желание то будет пожить! Недюжинные пейзажи, несомненно, ничего не скажешь! Да и что тут, собственно, раскатывать по языку, когда ничего подобного и не видывал глаз и не слышал таких вот красноречивых (механических каких-то что ли?) аккордов и краем уха! Это нужно будет в книжках то почитать по прибытию, говорилось аль не говорилось что-то такое, может трактат какой-нибудь был да написан, например, «О звуках механической рыбины» или труд «О движениях механической машины по серебряным стрелкам земли». Вот про машину то мы хорошо, несомненно, подметили, а что ничего об этих диковинах не слышали, так это уж плохо будет вам батенька — не осведомлены, что никак нельзя в ваши то годы – заключил некоторые свои замечания господин П.
Конечно же, он продолжил. Разве может человек, а П. несомненно обладал человеческими чертами, хоть и выражались эти честные штрихи немножечко грубовато по отношению к господину П., остановиться? Но ведь нужно же снимать пелену со всего заповедного хоть иногда, так ведь гораздо приятнее бытовать, хотя бы потому, что отгадывается малосимпатичный осадочек и уже ради чего-то стоит и жить. И разве может человеческая штукенция вдруг промолчать, если когда-то разок сумела она проговориться, а её возьми, да и выслушали? Но, хоть он и продолжил, но чего-то такого внятного или крепко выбитого не каким-нибудь голосом минувшего, а его собственным толковым жужжанием, он и не произнес, поэтому то не уложились эти словечки на его чрезвычайно подсохших губах, так он и брел, притаптывая оборку своего молочного платья, распластавшегося приливом волн под усыпанными венами ногами, кои холились в обвязанной вокруг ахиллова сухожилия сандалине, пока не услышал он вдалеке звонко-гласный свисток и не всколыхнулся, приостановился, пока не пробежала по его широким плечам и крохотной узловатой шеи мелодичная колика, пока снова не затрепетали слова на его худощавых цедилках.
-Ба! Да за такой звук и пару дуплетных заздравных бокалов можно и выпить, а то и три! Где их тут только найти то! Так бы и сели здесь и ждали этот колющий душку звук, эх, да и съесть не помешало бы чего-нибудь! Жаль только, что голод естественный нельзя здесь перебороть, а вот некий фантастический голод можно, как мы заметили. Ба! Что за крупная механическая рыбина издает этот потрясающий звук? Поглядеть бы на неё еще разок, хоть на плавник, что вдруг вздымается и прорезает предрассветную воду! Хоть какой-нибудь частью глаза присмотреть откуда-нибудь её светящийся шар — вот чудо-рыба!
От удовольствия господин П. резким скачком, словно шутливый сайгак, перескакнул несколько метров потом еще и еще несколько метров, пока не оказался вдруг — сам он и не смог понять как же так быстро он преодолел такое расстояние – на привокзальном путепроводе, и впопыхах начал любопытнейше всматриваться в малоизвестные для него, но такие знакомые, и между тем непримечательные, для горожан К. железнодорожные свалки, коими они прослыли. А для господина П. свалка здесь была ничем иным, как самым певучим местом, и взамен на прыгнувшую доброту из глаз, —а стреляла она от туда, позвольте, крайне редко, даже и никогда — покосившиеся привокзальные сооружения вдруг уголками неприметных выпяченных оконных рам выставили свою потрескавшуюся кожицу в улыбочке, и если бы сейчас ни с того ни с сего вдруг разбежался дождь, что было бы очень кстати, так как гуляла по городу духота, то улыбались бы они совместно с каплями, что отбивали бы джазовые ритмы на певучих желобах, застывая на мгновение распаянным металлом на плечах стеклянных оправ, дабы любопытнейший просиял еще разок. Казалось, что кто-то знал то, что господин П. и сам не ведал, и, взяв его силком, поместил сюда, а ему, как неуклюжему ребенку приглянулось. Им же, как известно, нравиться все доселе незнакомое – глаза принаряжаются в напуганные одежды, а ручка тянется при этом, переминая малорослыми пальчиками, пытаясь протрогать неизвестную вещицу. Но место и впрямь было волшебное!
Щебеночная крошка россыпью жалила земляные ланиты полотна. Кое-где, у самой кромки, подле железобетонных шпал и серебряных рельсовых нитей, выскальзывали запорошенные лоскутки чахлых изжелта-зеленых травинок – поспели крадущиеся неслышной поступью слезы утренней прохлады, и, стекая по стеблю, вбирали пыльную отметину громогласной тубы, разрывающей зыбкую пленку предрассветной тишины тревожными всхлипами и перешептываниями вагонов со стальной магистралью. Пару минут назад туба огибала окрестные оштукатуренные фасады пребелого здания и ныне уже тень стекольчатого, с сотовидными оконцами, фронтона, заполняла двурельсовую колею, лихорадочно помаргивая трескучим фонарным столбом, а караван, во главе с тубой, где-то там, избавленный от удушливого дыхания города, мчался навстречу закраинам.
Наискось зарисовывалось господину П., между тем, и полосатое, с чуть накренившейся крышей, желтоватое сооружение – это было ремонтное депо.
Как только он приметил очертания головного вагона, стоявшего внутри, на металлическом корпусе которого отражались разбросанные по округе красноглазые мачты семафоров, рядом защеголяли в полосатых тельняшках крохотные целковые морячки-пикеты, и повторный звук тубы разрезал листы воздуха, и, позади – на другой стороне путепровода, нарисовалось бледное тело, стоявшее на высеченном из камня парапете, на которое так же облокачивался и господин П., но на противной стороне. Он в секунду уже успел развернуться и с ужасом заприметить не только вопль тубы, кромсающий предрассветье, но и намеревающееся прыгнуть создание, которое с трудом различал. И в тот момент, когда он хотел было что-то прокричать ему, то ли вслед, то ли под руку, то ли испугавшись хотел помочь, песочного цвета лицо развернулось, предчувствовав или, быть может, зная наперед намерения П., и улыбнувшись прыгнуло вниз.
2
Жемчужно-белые пилястры обрамляли высеченную в камне сквозную перспективу интерьеров, где на мозаичном полу галопировала светотень, играючи прикасаясь к мраморному журчанию изумрудной кисти острова Проконнессос, что была облицовкой кусающего воздух камина. Поверх распростерлось объятиями к стене барельефическое изображение нагой афинской гетеры Фины в окружении алых тог судейской коллегии ареопага, застывших на краях в изумленном молчании, окаймленном в прощение; в углублениях стен красовались белокожие бюсты, отмеряющие расстояния прыжка до ниспадающих слезоточивых люстр, что озаряли саксонские тарелки, дымчатые китайские чаши, античные солонки, кружева фарфора, оливково-черные диносы и скопление этрусских ваз тонкой лепки, напоенные благоухающими турецкими гвоздиками и вином, планирующим на невесомых шептаниях отражений зеркальных столов; бронзовые курильницы ажурного декора источали благовония аравийских улочек, принуждая подобострастно сиять акролит всадника Рампена, громоздящийся среди набеленной мелом обветшалой одежды кандида. Величавые залы расшивались потолочными фресками с изображениями свиты Вакха, толстосумый пантеон был увенчан белокурым Александром Македонским и Птолемеем II Филадельфийским в обществе ученых и философов, насмешливым младенцем Долием, укравшим пиерийских коров, и сворой нереид, развлекающихся мерными движениями хороводов, в такт мановениям волн.
Фризовая каннелюра небрежно плевала из углов шафрановые кружева обнаженных бархатных ножек стен, некоторые из них сливались в танце с налегающими в тенистых нишах античными батальными живописаниями, повествующими о предбитвенных мгновениях, когда трубы все еще молчат в голодном ожидании бездыханных тел, а души воспаляются непреложной жаждой бытия. Или гудящее средоточие неукротимой резни, огорошивающее всякого эстета, сверкало взвинченными клинками и зычноголосым: — В атаку!
На центральной картине восковые сариссы с лепестковым наконечником пешей фаланги распарывали бурлящий у лесного валежника проток. Колоколовидные бронзовые кирасы впитывали журчащие брызги, остужающие размякшие от пота тела, а закрепленные на предплечье скользящие щиты соударялись с извитыми махайрами, приглушая иссекающуюся быстрину стекловидных вод; мужи шли по холсту горделивым строем, чуть приподняв курчавые шпили халкидского шлема, навстречу приближающейся туманной паутине, сокрывающей за размытыми очертаниями высокой травы орлиные гнезда неприятеля. Подле истомлено дремало акробатическое ревю тяжелой кавалерии флорентинцев, которые пластично изгибались перед пиками сиенской республики. В сердцевине пинакотеки, бок о бок, и едва не полыхая, форсило колоссальное полотнище — хорохорящиеся духи ундин с умилением из мутноватых растекшихся акварелей смотрели на железного Спартака, пробегающего с жаром щебечущие нарядностью душистые нивы. В мощеной длани лютый бестиарий держал звонкий меч с врезанным в невесомую рукоять цветком папоротника, распахивающего наступающую купу дубняка едва лишь моложавым блеском, словно тысячи четвертованных единожды изнывали, пригибая мощные кроны пьяного леса перед каскадом распаренных глаз двужильных спартаковцев.
Гуляющие дыхания ветра в смоляных фраках вечера ангажировали хрупкие пейзажи безмятежных художников востока так же расположившихся окантовкой углов пребогатого паноптикума. Обвитые волнами туманной сакуры минеральные краски преподносили залитому свинцом взору запечатленного бестелесного буйвола, бродившего в сыпучих осенних сапогах, пыхтя на белесом облаке поля. Другая кисть превозносила слепящую флегмой утлую лодку, что была объята вуалью беспрестанной шири — вокруг не виднелось ни йоты пропавшего мира, кроме выразительных черт древкового плота, двойной сетной снасти, привязанной к левому бортику, ломкого контура на воде и слегка сгорбившегося удильщика, пытавшегося дотянуться до прозрачных глубин зимнего озера, вычерпывая дышащих снегом рыбёшек, отбрасывая вязкие комья дланистого морского сена.
Все каскады композиций, простаивающие в залах, отбивали гулким протяжным цоканьем слепки воззрений задохнувшихся бытописателей, замыкающих в упаковку из древесной рамы животрепещущие очерки. Их переплескивающиеся красноречием сердца обернулись в гематомные светила, обосновавшиеся в сумрачных салонах, и, находясь в этих широкоплечих исполинских комнатах, они демонстрировали свой обветшалый костяк безголосых светляков, фактически превратившийся в водянистые декорации храма. Им лишь доставалось чахоточное моргание. Ко всему прочему, у них не было мочи отражать нападки вынужденного обывательства – по принуждению они сохнули. Была бы их воля – они тут же обстряпали бы сплоченный побег, выстраиваясь в эстуарические вертуны, перед запертыми вратами приволья. Но как чаще случалось – хрустальные грезы медленно затвердевали в главах и по прошествии времени падали уже моросящей, но весомой галькой напоминания среди невыразительного быта. Да и не располагали они силами, чтобы бодаться с тем скопищем эмоционального упадка проприетера, содержащего их, не имели они даже блеклого представления что же будет с ними дальше. Никто их и не примечал, плыли они среди храмовидных покоев призраками и прослыли фиваидскими отшельниками в ожидании серафима, хотя и были они в руках у художника, а П. был именно им. Нет, не нужно тот час же представлять этот хрупкий образ рисующего пейзажные мазки зарделого вечера, не стоит барахтаться со клише в одной луже. Художник может быть вовсе не чуткой натурой или может он не рисовать пейзажи, а рисовать страшный пушечный выстрел или рой огненных древковых стрел, и если ты пытаешься щекотать белый лист, можешь ли ты быть художником, или только представляешься подобием его? Вот и П. не был тем отчаянным или в меру спокойным безумцем, выскабливающим на пустых лицах красочные этюды, а их, позвольте, откровенно говоря, гораздо сердечней выслушивать, хоть и плюются они порой этими самыми красками и не нужны им ваши слова, нагое тело на стуле – это, пожалуйста, это мы примем, но только стойте смирно и не шевелитесь и ради бога – молчите! П. был им противоположностью, был он даже менее приятным человечком, чем эти худощавые кисточки с рыком льва. Да и рисовал он всякую дребедень, хоть и выпрыгивал внутри от радости, когда что-то такое да заканчивал из своих опусов.
Следом, приосанившись, начертился и он сам, словно пронюхав кабальные шептания квартирантов. И сейчас, когда он вдруг, проснувшись в своей пушистой кровати, увенчанной позади шелковым гобеленом с расположившимся на ткани башенным минаретом кирпичной кладки, глазурованным керамикой желткового оттенка, и возвышением на ажурном балконе, так называемом шерефе, силуэта рослого мужчины, который указывал куда-то на горизонт, словно подмечал совместно с П., что день уже доковылял до конца, и прохладные поглаживания забегающего муссона начали приятно раскармливать щетинистые иссиня-серые щеки пробудившегося, не вспомнил и краюхи сна, заковылявшего ему в длинные вздыбленные ресницы.
Никаким серафимом он, разумеется, не представлялся, да и когда это они в последний раз помогали страждущим? Уголки его крохотного рта вприпрыжку взбирались на холмистые скулы водопоев слезных журчаний, кои томились у истоков долгое время, да так, что борозда детских непростительных линий плача заросла лилейно-розовыми заплатками ветоши; дрожащие его уста-гнезда выпускали наружу алебастровых птиц – они в свою очередь скрежетали дурманом прохладных спиртовых настоек, которые господин П. уже успел осушить после пробудки. Некоторые из летунов пытались заливисто испускать восклицания томившихся мыслей, но лишь пустынное мычание сползало на поверхность рта, замыкая за собой скрижали птичьего царства.
Мог бы он, конечно, быть и приставлен сравнением с рядом стоящим обличенным серафимом, но господин П., был еще более худший экземпляр. Не был привязан он к благожелательности, более того был даже как-то нелепо враждебен ко всем окружавшим его созданиям и не имел какой-нибудь приятной для людского духа вещицы в характере, кроме всего прочего не был он ни кротким, ни приветливым, другими словами — не обладал он какими-нибудь приятными бонтонными чертами, даже походка его была какой-то небрежной и витиеватой. Казалось бы, куда хуже? Но в этом то и была вся загвоздка – было еще хуже! Видите ли, о П. можно было через минуту судить, определялся он мгновенно — потерял он свою простосердечную натуру еще в чреве матери, а если она и была с ним там, и была даже после рождения, то он ясно давал всем постояльцам понять, что перегрыз он это благодушие вместе с пуповиной и нисколечко не подавился, а даже и смаковал эту секундочку. Одним словом, прослыл он человеком пренеприятнейшим для своих квартирантов, хотя и до лампочки ему были эти суждения и вовсе даже и не задумывался он о возможной нерасположенности чувств постояльцев его храма, да и ведь квартирантами были те самые картины. — Да и разве они что-то могут там помышлять?
Конечно, каждый из квартирантов был более чем одушевлен. И даже, так сказать, был между тем более одушевлен, нежели, чем некоторые из других, встречающихся на перепутьях. Душа была вложена в них сполна. Некоторые работы, казалось, издавали пар в морозные ночи, быть может, они даже шептались и обменивались колкостями, более того могли обладать краюхой остроумия, что завсегда придавало некоторое духотворенное витание мудрости над челами. Господин П. же не замечал и толики того, что мог заметить самый посредственный глаз. Видимо, поэтому он и занимался чрезвычайным делом, как по своей вычурности, как по своей глубочайшей глупости, так и по самоугодию – он их сжигал.
Кумачовые вихры голодно обгладывали вызолоченные обода квартирантов — это было некое причастие к уже существующим, а точнее обитающим на прилегающих территориях храма покореженным полотнам. Господин П. желая показать, как самому себе, так и тем обывателям пушнины облаков, чьи холсты он предавал огню, что не могут беззащитные создания хоть как-то отвергать его мучения, ведь это же его руки все делают, а не чьи-то еще; — Да и какое мне дело до этих молчаливых сцен — не могут они мозговать или выть, только если скрипучим деревом или легоньким источником отмирающей краски. Но даже и краску П. не примечал, как слезы, а они ими и были. Владея взглядами умирающих полотен, он, дожидаясь их отрывочного выгорания, когда уже кое-какие места затевали издавать чернехонькую тлю, поливал их водой из баклажки рельефных кругов, перетянутой вокруг руки коротеньким ремешком, бросая на тело льняной или конопляной ткани с полотняным переплетением пряжи удивительные узоры разрухи, и с кряхтением горла ржал над их печальным изуродованным образинам.
Делалось это, по-видимому, из-за того, что, когда П. оставался наедине с собой, а оставался он так частенько, что может, кстати, и до безумия довести, то не хватало ему силенок, чтобы хоть как-то смирять глупые всплески враждебности к грациозным произведениям. Как каждого лгуна терзали его в глубине души игольчатые мысли признания, понимал он, что хоть и имеет все богатство, хоть и прячет он эти удивительные создания от человеческих глаз, то сам не может от этого стать мудрее или утонченнее, как бы ему чрезвычайно хотелось. Но и окружая себя в златые одежды, не мог П. получить душевного богатства, хоть и содержал он чистейшие по своей красоте хоромы, кои ежегодно пополнялись невесть как все новыми и новыми постояльцами. После прибытия их пустынно грело обжигающее небо, которое в знак уважения прикрывали плотные ткани небесной парусины. Рыдания уличных опусов выжимались мироточивыми капельницами на холодные валуны притворы храма, где совершались литии во время всенощного бдения, утрени или проходили оглушительные душевные звоны панихиды по преставившимся обугленным полотнам, над которыми совершали уже заупокойную прилетающие с моря робкие пичужки или отливающие на солнце жуки перед усеченными обсыпающимися штукатуркой пилонами, в отдалении которых сидела небрежная тень, плюющая на законное помилование, раскушивая аперитивы геркулесовых бокалов тюльпановидных форм.
П., дошел до такого крайнего безрассудства строя, что вовсе не признавал чьи то авторитеты — глазами он видел, но сердцем не принимал. Не было у него нужды ни в чем материальном — было у него все; душевного равновесия только не хватало в груди – хотелось ему собрать все эти удивительные вещи и скомкать из них наивящее огнище, чтобы прослыть наилучшим, как среди жителей городка Д., так и среди жителей мира.
— Да и кому было бы призанято зевать на таявшие у стен полотна, ведь это же не люди какие-то, ежели бы то люди были, то с удовольствием и даже если и с превеликим наслаждением обсасывали бы мы эту секунду, а лучше и минуту. А это всего лишь какие-то подобия художеств, кои на наши, конечно же, не похожи. Да и не могут они чувства хоть как-то да передать или болезненно томиться. Нет, то они, конечно, не могут. Ну, если только вглядеться в них.… Тьфу ты, да и зачем на них глядеть, нужны они больно, что это мы не нагляделись что ли на них! Хотя, что уж там, сегодня мы себе с каким-то крайним желанием позволили на них взглянуть, что даже как-то неправильно, может что-то и усмотрели в них? Ба! Да что в этих сущих пустяках можно разгадать то, лучше уж наше — кровное! Жечь их нужно и точка, а ну-ка пойдем, ты вот, да ты, галопом сюда!
Абордировав одну из картин, что шумливо всхлипнуло, разбудив остальных, П., выходя из главных комнат, забрел в коллегиальные хладные аванзалы, коих здесь было около трех. Они анемично обсыпались клочками отсвета сальных тел, когда П. приподнял свой надменный трюфель, кидаясь вперед, в углубления помещений.
Карнавала разрасталась на глазах. Пылающие флотилии ювелирных камней овальных мундиров с вырезанными эллинистическими профилями лиц нежились на отполированных палубах синегубых бутонах шкатулок. Кипящая крышка восторга подпрыгивала от роскошного пира Лукулла, насчитывающего дивные скульптуры из слоновых костей и мрамора и бронзы и дерева, уличающие индивидуализм образа, что зачастую доходил в своей выразительности до гротеска. У лениво худеющей свечи в обертке рогатого серебряного канделябра расплылся в зловещей улыбке чувственного рта низкий лоб с отяжелевшими подозрительными глазищами – портрет Нерона, раскупоривающий бутыль безбожного деспота, человека необузданных страстей. Плечо в плечо умиротворяющий жест в солдатском плаще совершал монументальный символ гражданского идеала и гуманности, глубокомысленный образ Марка Аврелия. Рядом двурогий с поднятым забралом шлем конкистадора Франсиско Писарро протыкал потолочные купола насмешкой к осанистому правителю инков Атауальпа, что статно поддерживал одноручный янтарный топор, из которого выстреливала цветочная трезубая пика. В ногах вождя расплылся в сардонической скалки пылающий пушниной духов орлиный венец над челом казненного чужеземца, целующего горсть матового пьедестала неотесанного бледного камня.
Выпорхнув через аванзалы наружу, на притвору храма, П., крепко сжимая в маленьких, но жилистых руках, одну из приговоренных к сожжению, через гущу крон, уже приложив чету сухеньких головешек к холсту, что был отставлен от пунцового креслица, где он ютился, к куче погоревших картинных синонимов, и, приложившись к очередному бокалу розовой настойки, ткнул взгляд через отдаленные белесые изгороди, что служили для горожан Д. лишь фигурным заслоном, а для господина П. они были целым непомерным рвом, но никто сюда и не метил вкрадываться, а почему — сейчас это проясниться.
Жил господин П. поодаль от ватаги жителей городка Д., кой был издали похож на своего рода грудничка, обернутого в высокий лесной свивальник, которого подбросили в мураву и — бежать! – чем ближе к нему подступали, тем более несуразно он как-то выглядел, но довольно таки симпатично – накормить хотелось его и солидным кирпичом и подтянутыми аллеями, кои в этом месте были лишь из мелкорослого гравелита да опады сучьев – осенью здесь творился сущий ужас – каша из грязи, и красочными наличниками оконного проема резных рук, хотя и прикрывал бы он танцующий сквозняк от которого городские кружили по ослизлым после уборки целковым полам кавалькадой канканерок; да и дали бы мы добавки – пара приветливых окон таверны неплохо бы на этой земле зажилась. Где-то посередке – у пупка младенца — стоял приземистый рынок, дальше по пушистому склону росли с шесть десятков косых домиков и невыразительная церквушка, с сияющей улыбкой купольной массы. Вот вам и весь городок.
О Господине П., стоит заметить, знали совершенно все, но как-то повелось — сколько он себя помнил — его и трогать не трогали, хоть и знали о нем, как о еще одном обывателе, а у людей ведь как принято – если здешний, то либо друг, либо враг, другого и быть не может. Но время было таково, да и люди были иные, что никто и не думал лезть в домашний очаг горожанина, шутка ли, но брать, если так можно сказать, что-то из его собственности было под запретом, на кою бы позарились те – другие, а собственность та была значительных величин у уважаемого лица.
Как бы то ни было, как бы полюбовно к П. не относились, но даже в глаза ни разу его и ни видели, и ни с кем с глазу на глаз то он и не говорил – был он несхож, конечно, с привычным фасоном затворника, но был им самым. Но не было у людей какого-то беспардонного любопытства. Поговаривали они сами так об этом у зыбко горящей сальной плошки – «Ежели человек есть, а он таков, какой есть, то имеем ли мы право предпринимать что-то противоречащее его удобству, пытаясь привнести в его жизнь то, что нужно нам, а не ему?»
Жители даже и вписали многоуважаемого, как они говорили, господина П., в разряд высших помещиков, — красным по белому было выведено на третьей строке городского учета о населении за n год – «Господин высший помещик П.», и в конце, конечно же, была жирная, капнувшая чернильной кирпичной кладкой точка, кою бросили на белый волокнистый материал очень даже аккуратно. Вписали его после градоначальника и одной бабоньки аредовых веков, а самое что ни на есть забавное, так это то, что вписали П. перед святым батюшкой – а тот, как оказалось, даже и не расстроился.
Между тем, П., как мы смели заметить чуточку раньше, лессированными тараньками с каким-то тормошением сопровождал догорающий холст взглядом. И, кажется, не задумывался даже в эту секунду о тех теплых чувствах, что мог бы вызвать у городских. Не знал он и не думал и о том, как бы его приняли. В добавок ко всему прочему, не подмечал и поразмыслить не мог, как бы его участливо обласкали словами и усадили бы за миловидную скатерть, на которой бы вырисовывались чуть сморщенные шелудивые от старости лица пожилых удальцов, и, сверкающие глазоньки, перекатывающиеся отблесками прыгающих погожих лучиков, непосед детей, что в данную минуту, когда гость тут, выжидают какой-то гостинец или хотя бы трепетное подмигивание или нахрапистую трепку кучных ребяческих волос, после которой они вскочили бы и с взвинчивающимися в избе смешками перебежали к мамке или папке под руку, выглядывая претихой смешинкой молочных зубов. Не могло ему прийти в голову в секунды глумления над квартирантами, что городские барышни, а там, как и во всяком маленьком городке были и свои прелестные краснощекие чаровницы, горели обласкать бархатной ладонью или знойным поцелуем господина П., а таких, поверите ли, было больше, чем вы можете себе представить, ведь загадкой он был для городских, да и затворники всегда представлялись презанятными фруктами, но местные сверкали добродушием и пониманием, поэтому сдерживали свои позывы к знакомству – что за удивительный люд!
Да и как же тут придет что-то в голову, когда еженощно П. выныривал на прилегающий к дому сад, где он часто уединялся в вечернюю полосу, коя уже висела свинцовым налетом на потолке эфира. Как же тут придет хоть какое-то понимание, просиживая радушные выпивающие часы посреди топиарной стрижки деревьев и кустов, где соприкасаются глумливые мысли с пением таинственного хора горластых божков, чьи завывания слышны даже бегущему по жардиньерке-небу презеленому лугу, отражающемуся в фонтанных всплесках морских солоноватых вод. Как же тут придет что-то в голову, где взгляд скользит по боскету из медоносных лип, широкоплечих грабов, северных каштанов и тропических цветковых акаций, что предстают вечнозеленым растением с трещиноватой бурой корой, отпугивая кусающие мысли грозными ветвями, или по аллигаторовым грушам и королевским пальмовым зонтам? Как же тут было что-то услышать, заполняя трюмы рта настойками, швыряя пяты на пароходную обшивку говорящей хрустом листвы? Как же тут что-то услышать, когда только и чувствуешь, как завывания спесивого ветра? И можно ли прочесть на чужом лице настроение, когда лица вовсе и не видно, когда ты и не здесь вовсе, а где-то там – посреди своих садов?
Вот и господин П. не прочел чего-то такого у городских. А время то удивительное было – а может ли быть время грошовое, если тех, других, вокруг и нет? Задушевное, так скажем, время было. Вот выскачешь на улочку – да как запоешь! А тебе подпевают всем миром разливающихся по долинам голосов. Тут и фальцетто вздымается вверх и глубинный бас рвет горланкой и гибкий сопрано и королевские теноровые си-бемоль сливаются единодушьем, и дети в конфетных обертках смеются, и взрослые улыбаются, и ты живешь!
Но не слышал П. чарующих завываний, пытающихся каждый раз прыгнуть к нему в оконца, коих здесь было о-го-го сколько — стоило постараться, чтобы не услышать. Да и не заслуживал вовсе он этих жителей, которые здорово отличались от всего этого скопища других, пахнущих отторжением; да и всех тех квартирантов он не заслуживал! А земля его держала и держала и хоть бы что.…Но, нашлось-таки на него действо одно, не в жизни, так во сне. И не нужно тут чего-то и добавлять, и так было слишком много уже сказано и перепето, поэтому господин П. уснул на репризе своего красного креслица, а холст тем временем дотлевал, издавая кашляющий наваристый чернильный дым.
3
Кринолиновый остов облегал нагое тело, поверх мучного торса не было ни батистовых панталонов, ни муслиновых тканей, ни глянцевой тафты, ни тяжелой парчи с металлическими нитями золота и серебра, ни даже прозрачного тарлатана, кой мог подвязать плавным дуновениям реберных ртов маску, преподнося изломанную тень, но никак не живое создание. Волнообразные ключицы выступали безмолвным молчанием движений, прозрачные побеги волосяных луковиц выплевывали на спину белогривые локоны, подбитые понюшкой густоты взгляда.
-А почему именно вокзалъ? – вымолвил П.
— Многие предпочитают думать или вовсе не думают об этом, кхм-кхм, что вокзалъ является неким отправным пунктом куда-нибудь. Это, конечно, в некоторых кругах является сущей правдой, но прежде всего это ком пережитого или переживаемого или того, что другой будет переживать – является он неким средоточием, некой линией пересечения всех временных отрезков. Да и он, этот самый вокзалъ, как-нибудь да заинтересовал бы вас.
— Нас? То есть, вы хотите сказать, что это все из-за нас, и нет тут какой-нибудь да очереди?
-А из-за кого же еще, как не из-за вас? Вы здесь видите кого-то другого?
— Нет.
— То-то и оно, что кроме вас здесь никого и не должно остаться.
— Остаться?! – встревожено пролепетал П.
— Верно.
— Как это остаться, не можем же мы взять и остаться, да еще и во сне, да еще и на вокзале?
— Вот видите, даже некоторое проведенное время в горниле делает из вас более нового человека – произносите вокзалъ, как вокзал, вам оно будет на пользу, то-то и оно, что кроме вас здесь никого и не должно остаться.
— Не можем мы остаться, да и сон это, глупо все это как-то, не хорошо даже.
— А осужденному разве может быть хорошо? Нет, конечно, разные случаи бывают, но может ли ему быть хорошо, нам кажется, что нет?
— А это мы что ли осужденными числимся?!
-Да не кричите же вы, будьте покойны.
— Как же мы можем быть покойны, когда тут такая несуразица твориться, ну и пусть это сон, да знаем мы, что это сон, тьфу, но нас и здесь трогать никому нельзя, это ведь не по нашей воле, да и не хотим мы, чего уж скрывать! И что же вы такое за суд?!
— Осужденным вы являетесь по праву.
-По какому такому праву?! И позвольте, чего же это вы заладили – осужденный, осужденный, повторюсь — это же всего лишь какой-то сон, не может же быть такого, чтобы нас да и во сне оскорбляли, нет, не так – чтобы нас да и во сне решались осудить, да еще и непонятно за что! Позвольте, позвольте, где же это видано, чтобы без какого-нибудь да документика пытались осудить, да-да, предъявите бумагу!
-Вот, возьмите.
-Так-с, это что шутка какая-то что ли? Это же что за бумага? Вы нам своими верхами то тут не тычьте, не тычьте, вы нам по делу, по нашему важному и отчасти глупому делу, а важное оно не потому, что срочное, а потому, что наше. И побыстрее!
-Прошу.
П. начал читать свежее, недавно напечатанное в канцелярии по веллуму, постановление, адресованное на его имя.
-Даже может и сегодняшняя, хм – тихонечко пробубнил П. Ага, так, фамилия есть, хм, еще и подчеркнута, ну да – это конечно, конечно. Хм, «…престранного вида объект…» — это что же тут такое написано? Кхм, «…производит неизгладимое впечатление и отдаленно напоминает других…» — еще бы, конечно, производим мы неизгладимое впечатление, еще бы, но что это значит – «…отдаленно напоминает других…» — каких таких других, и чем это мы отдаленно то напоминаем их, не хорошо, не хорошо…
— Вы читайте, читайте. Вот, следующий лист, позвольте, мы перевернем.
— Так-с, продолжим. Это что еще за безобразие! «Склонен к самоумалению, но должных черт не имеется» — это ж как так не имеется!! Ну-с, позвольте, так дело не пойдет, вам это дело с рук не сойдет!
-Успокойтесь, дорогой; здесь все написано, читайте далее.
П. несколько грозно взглянул в глаза бледной, но, скажем там, жуткой фигуре, и как-то резко отпрянув, словно от дула ружья, потупил голову и продолжил еле слышно декламировать еще не прочтенные строки.
«С присущей извергам жестокостью расправляется с квартирантами, проживающими в его обители…» — так, так, — тут П. немножечко взмок, затрепетал, и продолжил. «Страдания, нанесенные творениям, не возможно ни в коей мере окупить, также у подсудимого отсутствует хоть какая-то доля благоразумия и воспитать он её уже не в силах, поэтому..» – тут у господина П. затряслись таки поджилки, но все таки он мельком взглянул на последние строки – «…применимая норма наказания должна быть высшей из всех существующих.» — чуть было и не упал господин П., как дочитал постановление, но его, словно что-то, да придержало, поэтому он устоял на своих ногах и уже даже обрел некоторые силы, чтобы продолжить торговаться с неким созданием, чьи глаза он никак и не мог перенести.
— Да где же его возьмешь это благоразумие то, да и зачем оно нам сдалось – эта маревая благость! Для чего она нужна – ни для чего, смею сказать! Только беззубым она и необходима, нуждаются они в ней, в этой болтовне благоразумия, ха! Только до глубины простецким и нужна, а мы, смею сказать, не простые, и нечего здесь нам говорить кто мы такие–осужденные или не осужденные. Мы и сами знаем кто мы, нечего здесь тыкать, а вот кто вы?!
— Пожалуйста, будьте благоразумны.
-Повторяетесь, ей богу, повторяетесь! Да и не может быть у власти такой нескладный голос, как у вас, где же гром, где же рев церемониального молота?! Ага! И кого же теперь судить нужно?! Кто же теперь осужденный!
— Пожалуйста, будьте благоразумны.
-Да что же вы это, в самом деле, повторяетесь, что это у вас, власти над словом не имеется что ли хоть какой-то?
— А у кого она есть?