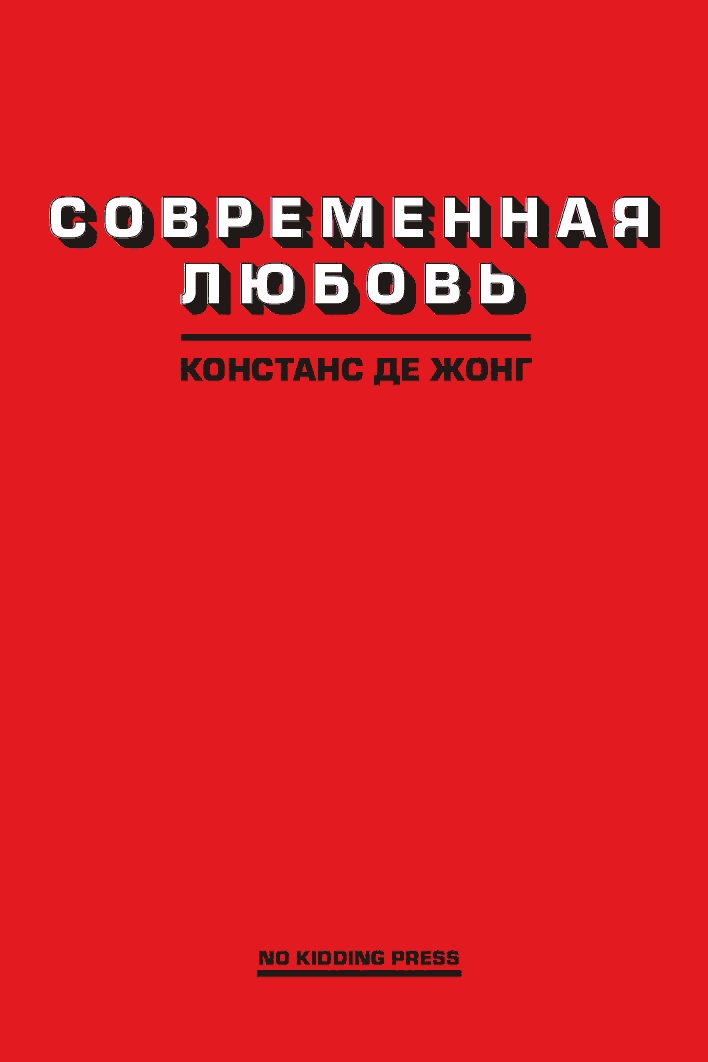Предисловие:
«Дистопия» в сотрудничестве с издательством No Kidding Press публикует «Современную любовь» в переводе Саши Мороз. Книгу о том Нью-Йорке, о котором поёт St.Vinsent, в котором, задыхаясь, умирала Валери Соланс, в котором появился и бесследно исчез Энди Уорхолл. Книги, написанной так хорошо, что это вызывает большую зависть.
Роман Констанс ДеЖонг «Современная любовь» — постмодернистская классика, образец новаторской прозы своего времени. Это детективная история и научная фантастика. Это история изгнания евреев-сефардов из Испании. Это любовная история, рассказанная из сердца нижнего Ист-Сайда. Это история Шарлотты, Родриго и Фифи Корде. Это форма, разъедающая время, голос и жанр, тщательно сконструированная и одновременно личная.
ДеЖонг, важная фигура нью-йоркской медиа-арт-сцены 70–80-х годов, отправляла «Современную любовь» частями по почте, издала ее в форме книги и превратила в часовую радиопьесу, музыку для которой написал Филип Гласс.
Содержание:
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
В середине июля 1588 года грозовые дни сменялись лунными ночами. Девятнадцатого июля в три часа пополудни перед глазами вахтенных матросов на английском корабле «Ревендж» предстало поистине устрашающее зрелище — настоящий кошмар возник из-за горизонта и стал заполнять собой всё обозримое морское пространство. «Испанская Армада, — выкрикнул Дрейк, — их корабли высокие, словно башни и замки, они выстраиваются полукругом, звучание их рогов разносится по меньшей мере миль на семь. Прислушайтесь. Даже океан вздыхает под бременем Армады». На исходе дня испанцы встали на якорь у Плимута, а когда в два часа ночи взошла луна, английские корабли покинули порт и зашли с тыла. Поразительная скорость и мощь, свойственные низкобортным английским кораблям, стали очевидны в первом же сражении. Испанцы говорили, что никогда прежде не видели столь маневренных и стремительных кораблей. Когда «Дисдейн», флагманский корабль лорда Говарда, был протаранен и лишен возможности вести боевые действия, флагманские лодки взяли его на буксир, благодаря чему «Дисдейн» смог скрыться от противника: «несмотря на то, что самый быстрый корабль Армады гнался за ним, он, по сравнению с „Дисдейн“, будто стоял на якоре».
Три сражения — 23, 24 и 27 июля — нанесли испанскому флоту тяжелый урон, но 28 июля состоялось сражение в Канале, и Армада встала на якорь близ города Кале. Именно в этой тактически важной точке войска Пармского герцога должны были взойти на борт. Испанский полководец Медина-Сидония не осмелился идти дальше. Впереди было Северное море, позади — всё возрастающая мощь английского флота. Сбоку — соблазнительные гавани Дувра и Маргита, но между ними сновали быстроходные голландские плоскодонки и английские корабли под командованием сэра Генри Сеймура. Они ждали. Если Парма в ближайшее время не предоставит достаточные запасы амуниции, еды и питья, у Армады не будет шанса исполнить свое предназначение.
Ночью 28 июля их оттеснили брандеры, благодаря попутному ветру подошедшие к ним вплотную, а на следующий день, когда им удалось собраться снова, у Гравлина разразилось устрашающее сражение. Шестьдесят английских солдат были убиты, потери среди испанских солдат, шедших плотными шеренгами под прямым огнем, от которого не было возможности скрыться, были поистине ужасны. Судьба Армады хорошо известна. Ее корабли тонули у берегов Норвегии, Шотландии и Ирландии, а человеческие потери были катастрофическими. Кто не захлебнулся и выплыл, был жестоко умерщвлен на берегу. В Испанию вернулось около шестидесяти судов из ста тридцати. Свыше десяти тысяч человек погибли. Почти каждая благородная семья понесла потери, и страна погрузилась в национальный траур в связи с поражением Армады.
Медина-Сидония обсудил возможные риски при атаке на корабли, вставшие на якорь, и приказал, чтобы шлюпы некоторых кораблей обеспечивали защиту, меняя направление курса неприятельских брандеров и принудительно буксируя их подальше от места сражения. Лишь в случае крайней опасности, подчеркнул он, корабли Армады должны утратить сомкнутый боевой строй. Лишь когда брандеры действительно создадут угрозу, корабли Армады должны поднять якоря и уйти в море. Поэтому испанцы не удивились, когда рядом с английскими судами появились восемь объектов, на борту которых сверкало пламя. Но они буквально обезумели от страха, когда увидели, что ветер и прилив стремительно влекут брандеры по направлению к кораблям Армады. Брандеры плыли настолько быстро, что для отражения их атаки защитным шлюпам пришлось маневрировать под шквальным огнем английских кораблей, расстояние до которых было весьма небольшим. Плотность, с какой смыкались ряды английских брандеров, не давала испанцам возможности использовать абордажные крюки. Размер брандеров, высота пламени, а также жар, исходящий от них, лишь усложняли положение испанцев. Наконец два брандера были схвачены и уведены с линии атаки. Но в тот момент английские пушки дали оглушительный залп в небо. Эхо залпа смешалось с последующей стрельбой, снаряды с шипением падали в кипящее море, и защитным шлюпам пришлось ретироваться, из-за чего оставшиеся шесть брандеров по ветру устремились к беспомощной Армаде. Недалеко от берега шел ближний бой. Испанские суда спешно снимались с якоря и выходили в Канал. Некоторым кораблям был нанесен серьезный урон, и угроза столкновения судов стала столь же серьезной, как и угроза огня с брандеров. Матросы английских кораблей ликовали, когда в полутора милях от них мощь испанского полумесяца сгорела дотла в сияющем пламени у скал Кале. Несмотря на все попытки Медина-Сидония не смог заново выстроить корабли для атаки. Те суда, которые претерпели столкновение, понесли настолько серьезный урон, что стали непригодны для военных действий. Одни корабли были снесены течением на целых шесть миль и были захвачены англичанами. Другие — были вытащены на берег. Подавая сигналы как можно большему количеству кораблей с требованием следовать за ним, Медина-Сидония поднял якорь и демонстративно поплыл в пролив, пытаясь уйти от преследования. Ему было ясно, что Парма не спасет его. Оставался один выход: найти дорогу домой. Английские корабли настигли испанский флот у Гравлина. Когда неуклюжие толстозадые корабли в беспорядке пробирались к Северному морю, корабль Сидонии «Сан-Мартин» вступил в пушечный бой с «Ревенджем» Дрейка. В то же время испанские корабли медленно и с большим риском попасть под обстрел воссоединились с основной частью флота. Один за другим, пока более мелкие суда искали укрытие вблизи больших кораблей, испанские корабли заново выстроились в полумесяц. «Они построились», говорит английский наблюдатель, «в форме полумесяца, адмиральский и вице-адмиральский корабли находились в середине…» Это был подвиг, который впечатлил англичан как «замечательное проявление дисциплины и мореходного искусства испанцев». Храбрость испанцев также была в высшей степени очевидна. Посреди стрельбы, дыма и разлетающихся осколков кораблей священники с распятиями в руках устремлялись к раненым и умирающим. Однако испанцы не прекращали сражаться, несмотря на крики их товарищей на палубах, залитых кровью. На следующее утро англичане не спешили атаковать. Их запасы амуниции были на исходе, и скупость королевы Елизаветы, не выделившей достаточно средств на военные нужды, не раз была помянута в грубых выражениях командованием и матросами. Вместо атаки англичане наблюдали, как корабли Армады дрейфуют в сторону прибрежных отмелей. А потом, около полудня, ветер сменился. Обе стороны по разным причинам описывали это как чудо. Ветер вдруг покрепчал и не дал огромным испанским кораблям разбиться на отмелях. «Бог был милостив и послал чудо», — написал кто-то на борту испанского судна. Бог не покинул их, когда они были «под самой ужасной канонадой, когда-либо виденной в истории мира». Ветер крепчал, и к четырем часам начался шторм, который по силе был похож на ураган. Из-за сильного ветра с дождем, который хлестал как из ведра, видимость была нулевой, но именно эта перемена погоды дала Медина-Сидония столь необходимую возможность. Даже когда английские корабли уступали друг другу дорогу, чтобы достичь максимальной скорости, огромные галеоны плыли еще быстрее, чтобы присоединиться к «Сан-Мартину». Вскоре корабли Непобедимой армады, сохраняя всё то же превосходное построение в форме полумесяца, скрылись из вида, и последнее, что видели англичане, — это испанские мачты, вокруг которых сомкнулся плотный туман Северного моря.
Когда испанские корабли скрылись за горизонтом, вместе с ними без следа растворились ревностные амбиции Филиппа II, связанные с королевским престолом. Но для него будто ничего не случилось, и он не оставлял попыток. Вплоть до своей смерти в 1598 году Филипп II пытался не завоевать Англию, но стать ее королем: ее полноправным католическим королем. В этом он видел единственный вариант развития политической ситуации. Конечно, за его пониманием этой ситуации не стояли лишь личные амбиции. Это была смесь религиозного рвения и веры в наследную кровь, побуждавшие его снова и снова не оставлять попыток. Некоторые его усилия были тайными. Но в одном великом морском сражении его замыслы предстали в истинном свете. Всего одно сражение стало апофеозом многолетних планов. Это была верхушка айсберга. В его основании лежала война между Испанией и Англией. В толще шла борьба католиков с протестантами. А на верхушке айсберга король Филипп противостоял королеве Елизавете. Два человека, лицом к лицу. Они вели свое сражение, чьи истоки были в 1554 году.
В том году Филипп женился на Марии Тюдор, королеве Англии. Соображения испанской стороны состояли в том, чтобы укрепить объединенное королевство посредством брака. При отце Филиппа империя была громадным, трудно управляемым монстром, но Филипп II всё изменил, разбив всю империю всего на три логических звена: Англия и Нидерланды, Испания и Италия, а также Америка. Помимо географического единства, была необходима общая вера, она давала дополнительные преимущества. Мария была благоговейной католичкой, и вместе с Филиппом они распространяли и поддерживали единственно правильную веру. Католицизм был гарантом единства. Вместе с помощью религии они собирались укрепить эту многонациональную обширную империю. Но в течение двух лет их план провалился. Мария умерла, не оставив наследников. Согласно воле ее отца, Генриха VIII, право на трон получила ее младшая сестра Елизавета. Филипп вернулся в Испанию — разочарованный, но не потерявший надежду. Питая почти маниакальный интерес к своей генеалогии, он выяснил, что его предком был Джон Гонт, англичанин королевских кровей. Он верил, что однажды вернется в Англию как ее католический король и восстановит порядок вещей. Филипп был не единственным соперником Елизаветы в борьбе за трон. На протяжении всей своей жизни Мария, королева Шотландии, претендовала на трон как единственный полноправный наследник. Она считала, что была настоящей королевой Англии. Забудьте волю короля Генри. Ее мать была его сестрой. Это давало ей, как она думала, три преимущества: она была королевских кровей, ее право на трон было полностью легитимным, она была католичкой. Это означало, что преимуществ у нее было на два больше, чем у Елизаветы, которая была протестанткой и, что еще хуже, незаконнорожденным ребенком Генриха и Анны Болейн. На протяжении восемнадцати лет Мария цепко держалась за эти два преимущества и верила, что однажды займет престол. Но вместо этого ее ждала казнь через обезглавливание. Ее смерть положила конец годам зверства и смуты. В период с 1567 по 1586 год постоянное тюремное заключение не давало ей осуществить планы по захвату трона. Чтобы стать королевой, нужно было выйти из тюрьмы. В неволе ей удалось разработать четыре плана прихода к власти, в двух из них фигурировали испанские католические союзники. В 1572 году Филипп был осведомлен о повстанческих планах убить Елизавету и освободить Марию, но не принял участия в их осуществлении. Он говорил, что испанские и английские католические мятежники должны сами начать, а в случае успеха он к ним присоединится. Они потерпели поражение, но Мария не теряла надежды. В тюрьме она провела четырнадцать лет, и в 1586 году Филипп сыграл активную роль в осуществлении второго плана. Англичане собирались умертвить Елизавету, освободить Марию, а испанские войска под командованием Пармы — установить новое правление. Планировалось, что они прибудут по морю, но будут сражаться на суше. План начал осуществляться, Армада была в процессе создания, когда заговор раскрылся. Мария поплатилась своей жизнью, и Филипп остался свободен в своем усмотрении, как вести вторжение и самостоятельно захватывать трон.
Он забыл, что вторжение с целью передачи престола королеве Шотландии могло вызвать одобрение по крайней мере у английских католиков. Вторжение, целью которого было превратить Англию в испанскую колонию, не встретило бы поддержки у англичан. Тем не менее Филипп верил, что английские католики только и ждали, чтобы вручить ему бразды правления страной. Его вера в силу религии, выходящей за пределы страны, была неимоверно сильна. Напротив, Елизавета пыталась умерить религиозные настроения, которые возрастали в катастрофических масштабах. Она не видела необходимости относить вопросы политики к вопросам религии. Прежде всего она хотела успешно управлять страной. И это было так, несмотря на ее сильную убежденность в необходимости Реформации.
Реформация была одним из ключевых моментов политики Елизаветы. Два других ключевых момента — деньги и война. Она была щепетильна и требовательна как в вопросах денег, так и в вопросах войны, и по всем ключевым моментам она была в полном согласии с государственным секретарем Уильямом Сесилом.
Пункт 1. Они видели будущее страны только в тесной связи с Реформацией.
Пункт 2. Они пришли к соглашению, что без восстановления государственных финансов и укрепления казны всё прочее невозможно.
После смерти Генриха VII ни один правитель Англии не заботился о казне. Отец Елизаветы пользовался казной, накопленной ее дедом, — и растратил всё. Генрих VII не передал свой финансовый гений ни Генриху VIII, ни правнукам, Марии и Эдуарду. Но его унаследовала одна из внучек. Елизавета знала, что казна — это власть. Потеря платежеспособности означала потерю независимости, потерю власти. Несмотря на то, что ее окружали знающие люди, которые тоже верили в этот принцип, никто не придерживался его с такой же страстной убежденностью. Экономия не была популярной добродетелью, и никто не мог идти на такие жертвы и сохранять неусыпную бдительность на страже экономии, как она. К вопросам денег Елизавета подходила с охранительным пылом, энергично и беззастенчиво.
Когда пришло известие о великой победе и бегстве противника в Северное море, всеобщее ликование ничуть не облегчило заботы королевы о казне. Все траты, по ее распоряжению, должны были немедленно прекратиться: наступление мира — это не повод отказываться от политики экономии, устоявшейся во время войны. Ее адмиралы Говард, Хокинс и Дрейк столкнулись с эпидемией дизентерии на кораблях. Людей свозили на берег, где им оставалось только умирать на улицах Маргита, потому что принять их было некому. Не растрачивая время на объяснения с королевой, адмиралы на свои деньги покупали вино, аррорут и предметы первой необходимости для больных. К тому моменту они уже знали, что проще действовать, чем объяснять. Елизавета славилась своей прижимистостью и алчностью, и совсем недавно, когда шли приготовления к войне с Испанией, они на своем опыте познали, как придирчива и мелочна королева. Не наделив Говарда и Хьюза полномочиями, хотя это стоило сделать без опаски, она продолжала лично контролировать поставки. Она требовала разъяснений по каждому пункту расходов и разрешала лишь ненадолго забирать членов команды и изредка подвозить запасы. У нее не было опыта, и она не владела методами ведения полноценной войны. Она только знала, что каждый раз, когда проводилась кампания против северных повстанцев, Нидерландов или кого бы то ни было, требовались чудовищные денежные вложения, и королевская казна была на грани истощения в отсутствие надлежащего и честного военного руководства. Никто, казалось, не понимал или не желал вдаваться в эти детали прошлого. Елизавета не могла им объяснить, как опасна утечка средств в таких ужасающих масштабах; в свою очередь Говард и Хокинс не могли объяснить ей, как опасно оставлять корабли без полной комплектации людей, амуниции и запасов. «Экономия не имеет ничего общего с войной», — говорил Говард. Такие речи только усиливали неистовое сопротивление Елизаветы, и в конце концов английским морякам пришлось работать в условиях нехватки ресурсов и использовать трофейный порох.
Пункт 3. Они не хотели разорительных военных трат.
Позиция Сесила была следующей: «Год мирного труда дает государству больше, чем десять лет войны». И пылкая, яркая речь королевы «Никакой войны, мои лорды!» подавила аргументы многих, выступавших на Совете. Она держалась дольше всех, даже Сесил сдался раньше. Последовательно, до последней минуты, без всякой поддержки Елизавета упрямо твердила, что войны с Испанией можно избежать дипломатически. До конца 1588 года она пыталась заключить соглашение с Пармой. Тем временем все остальные готовились к войне. В планах сухопутных сражений было предусмотрено сооружение баррикад и ликвидация мостов. Была налажена сеть сигнальных маяков для подачи сигналов на посты с подкреплением. Сухопутные войска были разделены надвое: тридцать тысяч человек под руководством лорда Хадсона расположились в окрестностях Виндзора для охраны королевы. Шестнадцать тысяч должны были отбить атаку на Лондон. Под командованием Лестера они разбили лагерь в Тилбери.
Но нельзя сказать, что Елизавета неукоснительно следовала всем трем пунктам. Она знала, когда пойти на попятную в важном вопросе, когда аккуратно обойти принципы, если того требовал момент. В Тилбери атмосфера была накалена: там царила готовность действовать. Когда пришло время, несгибаемый дух Елизаветы проявился во всей силе: и в речах, произнесенных ею, и в характере ее появления. Она научилась сознательно использовать символы показной роскоши. Меха, драгоценности, шелка, роскошные светские приемы — Елизавета представляла из себя зримый символ, идею во плоти. Королева — это человек, на которого нужно глазеть и испытывать восторг. Она страстно желала, чтобы люди видели ее. Даже при военном положении ей надлежит быть у всех на виду. Не только как Ее Королевское величество. Но как личность, которая сохраняет мужество и храбрость перед лицом чудовищных событий.
«Мой любящий народ! Пусть трепещут от страха тираны! Видит Бог, я всегда поступала так, что преданные сердца и добрая воля моих поданных укрепляли мою силу и охраняли меня от всех невзгод. Поэтому сейчас я нахожусь среди вас, как вы можете видеть, не для отдыха и забавы, но исполненная решимости жить или умереть вместе с вами в пылу битвы — положить жизнь за Господа моего, за мои королевства, за мой народ, за мою честь и кровь! Я знаю, что наделена телом слабой и хрупкой женщины, но во мне бьется королевское сердце, я плоть от плоти английского короля, я презираю даже мысль о том, что Парма, Испания или какой-то европейский принц может посягать на границы моих владений, и я возьмусь за оружие скорее, чем смирюсь с таким бесчестьем».
Весь июль Елизавета с нетерпением ждала вестей о высадке войск Пармы. Она хотела приехать на побережье, чтобы поддержать войска Лестера. Сначала он отказывался, но позже дал согласие. Она, в сопровождении свиты, прибыла в Тилбери 8 августа, взяв с собой красивую лошадь, белую, с пятнистым серым крупом. Десятого августа она обедала с Лестером в его палатке, когда прибыл гонец. Сведения были ложными, но вызвали большую тревогу: Парма якобы собрал все свои силы и уже пересекает Ла-Манш. Войскам была дана команда переходить к непосредственным действиям, а Елизавета заявила, что будет контролировать их. Ей настоятельно рекомендовали не появляться среди солдат без достаточной охраны, иначе один выстрел может достичь цели, ради которой задумано всё вторжение: вторжение направлено против королевы, а не против нации. Но Елизавета знала, что ее влияние на умы было бы подорвано сопровождением охраны. Это были ее люди, и она всё еще (менее трех недель назад ей минуло пятьдесят пять лет) предполагала, что они чувствуют ее монаршую власть. Она полагала, что встанет в их ряды с небольшим эскортом, который будет держаться в отдалении. Наконец, для защиты ей отыскали стальной нагрудник, а пажу был выдан шлем с белым плюмажем. Она села на лошадь, одетая в белое платье, сшитое специально для этого случая, и в огненно-рыжем парике. Граф Ормонд нес перед ней государев меч, Лестер вел лошадь под уздцы, а поодаль шел паж со шлемом. Королева сквозь шеренги солдат выехала на небольшой холм. Там она спешилась и стала осматривать войска. Солдаты были в восторге. «Ее присутствие и ее слова, — говорил Лестер, — неимоверно укрепили боевой дух солдат». Ее речь была записана, и офицеры читали ее вслух. Слушая эту речь, люди говорили другу другу, что готовы умереть за свою королеву. Это был ее любящий народ.
Королева расцветала от любящего внимания и прикладывала усилия для того, чтобы получать его как можно больше. Встречи с подданными были своего рода ритуалом ее участия в жизни общества. За закрытыми дверями ее покоев, в ходе частных аудиенций, она чувствовала, что люди ее безгранично боготворят. Она была как драгоценный камень, воссиявший на свету всеми гранями своего совершенства. Женщина в должности королевы, королева как женщина: эти образы она развила до предела. И весьма успешно. Эти образы-идеи были неотличимы от одежды, которую она носила: они украшали ее, подчеркивая грани бриллианта по имени Елизавета. И Елизавета сама демонстрировала себя как драгоценный камень. Она поднимала его в ладонях, прижимала к себе, поворачивала разными сторонами, подносила к восхищенным глазам. Глазам Лестера, Дрейка, Релея, Кортеса. Но нет. Мысли о Кортесе, об этом испанце и его горящих черных глазах, навевали воспоминания о крови, о сражениях и смерти. Они вызывали в памяти лицо Марии, а за ним — лицо еще одной Марии и леди Джейн, Катарины, Анны и всех женщин, чьи союзы с мужчинами стоили им жизни. Мужчины — это то же самое, что рок и смерть. Если отдаться одному из них, он отрубит тебе голову. Или ты умрешь во время родов. А если выживешь, то увидишь, как твоего наследника обхаживают за твой счет. Но не время предаваться печальным воспоминаниям. Шел 1589 год, и ни короля, ни наследника не было. Никто не отвлекал от любящего внимания. Бесчисленные мужчины проявляли острую привязанность и заботу о Елизавете, зная, что лишь она отделяет их от катастрофы. Это были любовники на одну ночь, друзья на всю жизнь, те, кто занимал среднее положение, желая приблизиться к ней. Но среди них не было мужчин, равных королеве. Никто не мог быть с ней на равных. Вместо этого — длинный караван мужчин, которые появлялись и исчезали. Мимолетные кавалеры, долгосрочные советники, амбициозные придворные; нескончаемая вереница людей, которые теперь приобретали столь же экстравагантный вид и столь же пылкий темперамент, как и сама королева.
После победы над Армадой подъем национального духа среди англичан выразился в желании сложных и ярких вещей. В Англии воссияла новомодная роскошь — стекло. Этот хрупкий и блестящий материал ценился как драгоценность, практически как бриллианты. Его прозрачность и цвет поражали тех, кто видел его впервые. Знаменитый венецианский стеклодув стал монополистом производства, поскольку ввел свое ремесло в число королевских естественных наук. Под его руководством в Лондоне были построены стеклодувные мастерские. Новых товаров появилось великое множество. Стекло появилось всюду — в витринах магазинов, в жилых домах; куда ни посмотри, весь мир сиял. Стеклом подчеркивалось великолепие лондонских садов, и его поразительные возможности как наружного материала стали предметом изучения. Фрэнсис Бэкон задумал построить купальню, с боков и снизу «украшенную цветным стеклом и подобными блестящими материалами». И всё-таки, когда в конце столетия в моду вошли большие окна на фасадах огромных домов, это казалось ему неоправданным излишеством. Он говорил: «Иногда вы строите красивые дома, в которых так много стекла, что непонятно, где в них укрыться от солнца или холода». Но у тех, кто еще не привык пользоваться стеклом, оно вызывало ощущение волшебной роскоши, великих богатств дивного нового мира.
Мир был полон энергии и блеска, а его обитатели, зачарованные ослепительным зрелищем, сами стремились стать его частью. Люди стали вешалками, они тонули под огромными буфами и вздымающимися волнами платьев. Десять лет назад Елизавета ввела проверки «самоуверенных умонастроений подданных», которые взялись подражать пышному придворному платью. Вышел акт Парламента, разрешивший некоторым официальным лицам стоять на перекрестках, вооружившись ножницами, и отрезать воротники, которые превышали размер, разрешенный законом. Теперь проверки были отменены, и все облачились в безумные одеяния текущей моды, люди двигались как объекты, имеющие пропорции, цвет и композицию. С возрастом вкусы Елизаветы в одежде становились всё более замысловатыми, она всё больше обретала склонность к символическим и театральным атрибутам и дорогим фривольностям. На смену простым полотняным ночным колпакам пришли «ночные чепцы» из батиста с прорезной вышивкой, украшенные бриллиантами и кружевом. Салфетки, обычно изготавливаемые из голландской ткани, были отделаны черным шелком, по краям обшиты серебряной нитью и мелкими оборками. Покрой платьев был повсеместно украшен образами птиц, зверей и червячков всех оттенков разнообразных цветов. Пепельного цвета сатин, расшитый серебряными и черными нитями. Шелк соломенного цвета, расшитый черным и золотым. Белоснежный, украшенный золотым и оранжевым. Французские платья с цветами и зверями из венецианского золота: с радугами и гранатами, ананасами и девятью музами в одном ряду. На другом платье, расшитом узором в виде пророщенного мха, покрытого корнями мертвых деревьев, было четырнадцать пуговиц в виде бабочек. На других платьях были вытканы уши, глаза, змеи, мечи, улитки. Появлялись черно-белые платья, ярко-алые или насыщенных оттенков фиолетового, которые были хорошо видны издалека, или более мягких оттенков — для личного пользования в ее покоях. Розовый, красно-коричневый, желтовато-коричневый, желтый. В королевском гардеробе было около ста двадцати пяти юбок, сотни кертлов, передников, мантий, вуалей, вееров, шестьдесят семь вечерних нарядов модных оттенков «Цветы персика», «Девичий румянец», «Имбирный», «Бархатцы». А затем начали преобладать белые и серебряные цвета.
Слава Елизаветы после 1588 года достигла пика и превратилась в настоящий культ. Ее возвели в идеал, как Диану, как Синтию, богиню целомудрия и лунного света. Как королеву ночи, ее ввели в божественный пантеон. В белые и серебряные сферы, где мужчины, оставившие след в истории до 1588 года, пришли на место тех, кто привел Елизавету к теперешнему положению. Лестер был мертв, как и многие другие ее приближенные. Уолсингем, Хеттон, Хокинс, Бёрли… старую команду сменила новая, громогласная. Рейли, Эссекс, Энтони и Фрэнсис Бэконы, Руис Кортес… ну вот и снова он. Этот темноволосый испанец, оставивший неизгладимое впечатление, все еще был рядом.
Даже более того.
Испанская угроза вернулась, Филипп предпринял новую атаку, шел 1596 год, ничего не происходило, разве что Руис Кортес гулял по саду с Фрэнсисом Бэконом, а Елизавета медленно ходила по комнате, от окна к столу и снова к окну. Всё еще пытаясь гнать от себя мрачные воспоминания о кровопролитии, о битвах и смерти.
Кортес и Бэкон с неторопливой торжественностью шли по Виндзорским садам. Изредка они прерывали молчание. Бэкон знал, что его друг не хочет обсуждать новые планы Филиппа наслать на них Армаду. Он знал, что Кортес мог сказать только, что он не испанец и не англичанин. Что он не является чьим-то сторонником, что больше не участвует в войне, которая идет с 1492 года, и нечего тут больше обсуждать.
Руис Кортес родился 27 марта 1565 года в Мадриде, в Испании.
Его отец, Авраам, был влиятельным человеком при дворе Филиппа II. Будучи личным врачом Короля, Авраам Кортес снискал особое расположение и доверие Филиппа. Они стали почти близкими друзьями. Их связь была отмечена предательством и недоверием. У Кортеса не было права на ошибку, и он это знал. Он заслужил особое место, приближенное к королю, как конверсо — еврей, который отрекся от своей веры в пользу служения королю. Любые подозрения грозили незамедлительной смертью.
Каждый конверсо это знал. В истории — масса таких примеров.
В Средние века евреи играли значительную роль в культурной и экономической жизни Испании. Но затем, в конце четырнадцатого века, их положение ухудшилось. Массовую ненависть к ним подогревало священство, и часто это выливалось в ужасные погромы против евреев. Чтобы спастись, многие обращались в католичество, и к концу четырнадцатого века число обращенных евреев могло сравниться, а быть может, и превысить число их собратьев, переживших массовую резню, но оставшихся верными религии своих отцов.
Некоторое время жизнь конверсо была непростой, но приносила большой доход. Богатство открывало им пути ко двору. Некоторые из их высокопоставленных семей породнились с титулованными дворянами. Политические группировки выступали в их поддержку. Однако расцвет конверсо как имущего класса начал угрожать всему общественному строю Испании; строю, который основывался на наследном статусе и земельных владениях. У конверсо не было ни того, ни другого, поэтому их власть сеяла возмущение и подозрения.
Церковники сомневались в том, что они честно отреклись от еврейства.
Аристократы возмущались, оказываясь в зависимом положении, когда брали ссуду у богатых конверсо.
А простой народ ненавидел их за то, что они собирали подати или были фискальными агентами знати.
Первая инквизиция избавила страну от некоторой части конверсо, припугнув их. Но этого было недостаточно. В 1492 году они еще оставались в стране: евреи и скрытые евреи гнездились в самом сердце политического организма, распространяя свои тлетворные доктрины по всей Испании. Это ни к чему не привело. Тридцатого марта 1492 года Фердинанд и Изабелла подписали эдикт, согласно которому всех открытых евреев следовало изгнать из их королевств в течение четырех месяцев.
Эдиктом 1492 года завершилась миссия длиной в двадцать три года.
В 1469-м Фердинанд и Изабелла поженились, тем самым объединив две испанские короны. Ее корону — корону Кастилии. Его корону — Арагона. Но именно у них возникли особые проблемы. С одной стороны, они заявляли, что их высшая цель — создание единого государства. С другой, они не поддерживали действительное объединение испанских территорий. Они хотели навязать единство, централизовать правительство. И они хотели, чтобы каждое государство сохранило свое территориальное деление и управлялось по своим старым законам. Возникал вопрос: как воплотить оба идеала без противоречий.
Они быстро разрешили эту проблему. Страну, абсолютно лишенную политического единства, могло сплотить общее вероисповедание. Католичество должно было объединить разношерстный народ Кастилии и Арагона. Оно обостряло национальное чувство, и даже более того. Поскольку четкой границы между религиозными и политическими победами не было, каждый политический триумф свежеиспеченных монархов приобретал еще один уровень значимости. Каждый политический шаг сулил триумф веры, и более того — каждая религиозная победа в Испании сулила окончательный триумф Святой Церкви во всём мире. Фердинанд и Изабелла стимулировали этот процесс: политика уравнивалась с религией, а религия — с их жизнью в грандиозном масштабе. Вера Изабеллы была пламенной, мистической и сильной. Вера Фердинанда была мессианской. Объединившись, они заявили, что на них возложена святая миссия по спасению мира и они ведут его к искуплению.
Но для того чтобы заслужить эту миссию, они должны были в первую очередь очистить храм Господень от грязи. Из всех источников грязи наиболее вредными были единогласно признаны евреи.
После публикации Эдикта об изгнании от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч человек покинуло страну. В это число входили влиятельные, но неполные конверсо — люди, занимавшие высокое положение в церковной, административной системе и в мире финансов. Было много отречений в последний момент, и было положено много усилий, чтобы удержать в Испании незаменимых врачей-евреев. Под прямым давлением королевского двора Моисей Кортес принял крещение и остался в стране. Он не желал подвергать свою семью риску или начинать новую практику невесть где. Он осознавал, что его врачебная практика может его защитить. Моисей также осознавал, что может защитить своего единственного сына, Авраама, окрестив его. Раз и навсегда его мальчик в безопасности, потому что теперь он католик. Очень жаль, что Авраам обречен нести на себе печать его веры в своем имени. Это неважно. В первую очередь он — Кортес; во вторую — врач; и в третью — Авраам, а когда он заведет детей, они будут совершенно свободны от каких-либо подозрений. Казалось, что всё улажено.
Но Моисей ошибся.
Во-первых, его сын был вынужден жить как конверсо. Авраам был обречен всё время доказывать, демонстрировать, сохраняя постоянную бдительность, что не собирается возвращаться к вере его предков.
Во-вторых, сын Авраама не освободился, получив новое, испанское имя. К тому моменту, когда родился Руис Кортес, конверсо столкнулись со второй, более устрашающей волной инквизиции.
И всё, что происходило с 1492 года, влияло на его жизнь. Старые трудности превращались в новые и передавались по наследству. Еврейский вопрос стал проблемой конверсо, которая всю жизнь преследовала Авраама, передалась его сыну и закончилась коварной личной местью. Волновавшие всех, от короля до простых людей, те же старые вопросы вылились на Руиса Кортеса.
Когда он родился, испанские конверсо предстали перед инквизицией, оказавшись в зоне двойного риска. Теперь их объединяли не только по религиозным, но и по расовым основаниям, обвиняя с новой силой. Религия и раса в понимании народа были одним и тем же, и одержимость чистотой веры, которая шла бок о бок с одержимостью чистотой крови, удвоила агрессивный натиск инквизиции. Эта двойная одержимость привела к тому, что необыкновенное многообразие испанского общества значительно уменьшилось, а всё его богатство и витальность были помещены в смирительную рубашку подчинения.
Руис сопротивлялся всему тому, что ограничивало его, словно камера заключения. Еще ребенком он ненавидел гнетущую атмосферу Испании. Когда ему разрешили вместе с отцом появляться на аудиенциях у короля, он слушал, как Авраам и Филипп говорят о Нидерландах, Италии, Америке, странах, которые ему никогда не суждено увидеть. Он ненавидел стены, окружавшие Испанию, которые не пропускали зло, блокируя опасные влияния зарубежных идей. Стены, которые отрезали ему путь к далеким мирам, были всё ближе. Руис ненавидел тюрьму своего повседневного существования. За пределами его собственного дома опасность предательства и подозрения сужали круг его общения до короля и его свиты. Он ненавидел своего отца за это: Авраам пошел на поводу у одной из самых неприятных черт инквизиции — ее естественной тенденции сеять недоверие и взаимные подозрения. В этой атмосфере процветали информанты и шпионы, а Авраам мог доказать и продемонстрировать свое абсолютное духовное родство с католиками.
Поскольку жертвам инквизиции никогда не сообщали, кто был их обвинителем, новый Эдикт веры развязал информантам руки и определил ликвидацию еврейства как нечто само собой разумеющееся. Тайные дознания лишили людей свободы слушать и говорить: в больших и малых городах, в деревнях были информанты, работавшие на власть. Авраам был одним из них, и Руис об этом знал: это подогревало его ненависть. Его отец; Филипп; католики; Испания — всё это называлось одним словом: ненавистное.
На глазах Руиса его отец донес на преданного коллегу, Антонио Сеньора, который постоянно поставлял Аврааму настойки и травы для врачебной практики. Руис любил приходить в лавку этого старика, сидеть в окружении склянок и пробирок, пока Антонио замешивал пахучие снадобья. А потом однажды Антонио исчез, и запах смерти смешался с дымом над городом.
Он видел и других, сгинувших благодаря Аврааму.
Он видел, как его отец угодливо прислуживает королю, получая привилегии за чужой счет.
Он слышал, как они обсуждают власть справедливости, единственный путь, право на отказ.
Он присутствовал на специальной церковной службе, где Авраам вторично принял крещение — на случай, если у кого-то оставались сомнения на его счет.
Он слышал, как Авраам напоминал Филиппу о том, сколько он сделал и еще собирается сделать для короля. С ним был его сын по имени Руис. Доказательство его службы в прошлом и надежда на будущее. С ним было живое доказательство постоянного служения; следующее звено в цепи, его сын.
Руис почувствовал, как Авраам по-отечески коснулся рукой его плеча и подтолкнул. Авраам всегда подталкивал его к Филиппу. В присутствии короля Руис часто получал отцовские подталкивания и тычки. Каждый такой жест лишь укреплял его растущую ненависть.
К двадцати трем годам Руис слишком много увидел, услышал, пережил. Ненависть переросла в жажду мести. Он возьмет свое и тем самым обретет свободу.
Авраам имел обыкновение рассказывать Руису обо всём, что сообщалось в беседах с королем. Его переполняла гордость от близости с Филиппом, и гордость мешала ему держать язык за зубами. И он был чересчур уверен в том, что сын ему предан.
Однажды ночью Авраам вернулся из Эскориала поздно ночью, с прекрасными известиями. Во всех деталях, вверенных ему, Авраам пересказал известия Руису. Филипп объединился с Марией, королевой Шотландии. Английские католики собираются убить Елизавету, освободить Марию, и тогда испанские войска под предводительством Пармы установят новую власть. Приготовления уже вовсю велись. Испанские и английские католики уже провели встречу и обсуждали, как передавать информацию в письмах между Марией и Филиппом.
— Отец, это момент, которого я ждал. Это наш шанс. Я буду передавать письма.
— Что ты говоришь, сын?
— Что я поступлю на службу Святой Вере. Я буду путешествовать, буду связным между Англией и Испанией, буду доставлять письма.
— Но ты слишком молод.
— Нет. Возраст — мое преимущество. Я быстр и не теряю бдительность. И меня никто не знает. Для того, кого никто не знает, меньше риск попасться. Я не буду привлекать к себе внимания.
— Я не знаю, имеет ли это смысл.
— Имеет. Послушай, отец, пришло мое время внести вклад. Я уже достаточно взрослый, это важно, и эта возможность открыта передо мной прямо сейчас. Я могу сослужить службу королю, стране, вере и нам, что важнее всего.
— Нам?
— Тебе и мне. Кортесам. Мои действия раз и навсегда покажут всем, какое положение мы занимаем. Ты знаешь, что я имею в виду, и ради этого я готов рискнуть жизнью.
— Да. Это опасно. Но я согласен. Ты прав.
Филиппа было не так-то просто убедить, но в конце концов он отослал Руиса в Англию с первым из многих документов, в которых были описаны вынашиваемые им планы по поводу Марии. Шел декабрь. В июле миссия Руиса завершилась. Заговор был предан огласке, а Марию судили. Восьмого февраля состоялась ее казнь. Страшные злодеяния едва задели Руиса. В декабре он окунулся в поток событий, в июле — вышел из него. Течение событий ускорялось: Филипп готовился к вторжению, Елизавета — к войне, а дни Марии были сочтены. Руис наблюдал за ускоряющимися событиями, не испытывая никаких эмоций. По его милости одна королева была мертва, а другая осталась жить. Проблема была не в этом. Одна страна будет воевать с другой. Руис никак не ожидал, что его действия могут изменить мир. Его намерения были гораздо меньшими по масштабу: он действовал в рамках ближнего круга, который стал его ловушкой. Это был единственный мир, который он знал, единственный мир, который волновал его — его собственный мир. Авраам и Филипп превратили его в тюрьму. Его месть была личной: он мстил этим двоим. Его месть носила открытый характер: он хотел выпорхнуть из клетки. Его действия были полны ненависти к тюремщикам, полны надежды на освобождение. Месть была мелкой, это было сведением счетов с несколькими людьми. Теперь, когда всё свершилось, он никогда не сможет вернуться назад. С друзьями-англичанами он мог делать, говорить и думать всё, что хотел. Всё, что… что имело для него теперь значение.
Многие новые друзья Руиса не разделяли этого мнения. Не проходило и дня без того, чтобы Рейли не напоминал Руису о том, что тот совершил: «Ты спас королеву! Ты вывел предателей из убежища, и теперь мы можем сразиться с ними. Ты герой, — говорил он с присущей ему напыщенностью. — Ты герой, и теперь ты должен довести свои подвиги до конца. Отправляйся с нами в плавание. Поплывем на моем корабле и сразимся с ними. Изрежем этих ублюдков в клочки! Ты еще ничего не видел. Подожди. Ты еще увидишь, они побегут с писком, как крысы с тонущего корабля». Руис мог ждать целую вечность. За восемь промелькнувших месяцев он увидел многое.
С июля по декабрь он провел много времени с предателями — как англичанами, так и испанцами. Повстанцы обменивались множеством писем, и Руис выступал как посредник. У него был хитрый план. Письма в тюрьму Марии и из тюрьмы переправляли в бочках с водой. Никто не мог заподозрить католика-перебежчика в шпионаже: темноволосого юношу, в облике которого чудилась абсолютная невинность. Руис проносил бочки в тюрьму и обратно, не вызывая никаких подозрений. Он проходил прямо через внутренний двор Филиппа. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить участников заговора как с английской, так и с испанской стороны. Только один человек, помимо Руиса, был в курсе его двойной агентурной деятельности. Его имя было Уолсингем, он был доверенным посланником Елизаветы. Именно Уолсингем в начале 1586 года придумал изобретательный план с бочками. Тревожась за безопасность королевы, он никому не открывал этого плана и ждал, пока появится нужный человек, который сможет привести механизм в действие. Руису не составило труда убедить его, что он — тот самый человек. Он принес письмо, подписанное и запечатанное лично Филиппом. Это возымело действие. Теперь Уолсингему оставалось только наблюдать за тем, как Мария плетет интриги, и ждать, пока подвернется подходящий случай. Руис сохранял копию каждого письма перед тем, как передать его очередному предателю. Наконец в мае пред очами Уолсингема предстал последний и самый серьезный план убийства Елизаветы и вторжения Филиппа. Имена, места, даты — всё было перечислено. В июле заговорщики были схвачены, Мария была арестована как соучастница преступления, а двойная агентурная деятельность Руиса была прекращена. Почти сразу в его жизни появилась другая форма двуличия.
Уолсингем проинформировал Елизавету о той важной роли, которую сыграл Руис в ее жизни, и просил ее встретиться с ним и вознаградить за услуги. Их конфликт для нее был слишком серьезен. Он спас ей жизнь, но даже мысль о нем, не говоря уже о встрече, вызывала в памяти мрачный призрак Марии, заключенной в темнице и ждущей неотвратимой казни. Она швырнула туфлю в лицо Уолсингему и сказала, чтобы тот убирался прочь.
Новые друзья пришли Руису на помощь. Они взяли его под свою опеку и ввели в круг амбициозных молодых придворных, которые вечно толклись между Виндзором и своими городскими домами. Долгими часами ожидая королеву в закрытых комнатах или выполняя многочисленные задания на море, Рейли очень мало времени проводил в Дарэм-хаусе, своем поместье на Стрэнде. В знак расположения к Руису он передал ему поместье.
— Вам следует оставаться там и располагать домом по вашему усмотрению, сколько вы пожелаете, пока вам не случится обрести собственное хозяйство.
— Спасибо.
— Королева навестит вас. Она придет послушать нас. Вот увидите.
— Я очень благодарен вам за заботу.
— Между тем не премините воспользоваться маленькой комнатой в башне, это моя любимая.
— Спасибо.
— Я хорошо помню, как проводил в ней приятнейшие часы, предаваясь своим занятиям. Ее окна выходят на Темзу, оттуда открывается один из самых приятных видов на свете, и он не только проясняет взор, но и поддерживает дух и, как я это называю, расширяет изобретательность человеческой мысли.
— Уверен, что я оценю ее по достоинству.
— Да, и не обращайте внимания на призраков. Много людей останавливалось там — даже сама королева. Но призраки никогда не беспокоили меня. Они никогда не прерывали моих занятий и писания стихов.
— Я не знал, что вы пишете стихи.
— Но разве не каждый этим занят? Подойдите. Посмотрите. Это не слишком интересно, лучше спустимся вниз и посмотрим, не пришел ли кто-нибудь с визитом.
Кого-то из них всегда можно было найти неподалеку от таверны «Русалка» и трактиров Чипсайда и Стрэнда. Рейли считал Кристофера Марлоу и других завсегдатаев своими друзьями. Вскоре Руис оказался в мире, о котором никогда не подозревал. Впрочем, ему понравилось. Ему понравилось пить пиво и курить табак. Ему понравилось проводить там долгие часы за разговорами. В основном говорили о книгах. Не только о тех, что читали эти люди, но о тех книгах и стихах, которые они писали. Руис слушал то, что они зачитывали друг другу. Особенно ему полюбилась заново открытая греческая мифология, и он закрывал глаза, сосредотачиваясь, когда Марлоу читал вслух свои переводы. В 1558 году испанская корона выпустила прагматик, воспрещавший ввоз иностранных книг и предписывавший, чтобы все книги, напечатанные в Испании, лицензировались королевским советом. В следующем году еще одним прагматиком студентам запретили обучаться за рубежом. Инквизитор генерал Вадес, развивая закон о цензуре 1558 года, в 1559 году опубликовал новый указатель Испании. Крайнюю жестокость этого документа дополняла одержимость, с которой он приводился в исполнение. Розыск запрещенных книг проводился регулярно, и епископату была доверена организация систематических инспекторских рейдов по публичным и частным библиотекам. Диана и Улисс, богини и герои — всё было так реалистично, что Руис практически видел их наяву, когда Марлоу читал вслух.
Рейли ударил кружкой по столу, нарушив ход его мыслей.
— Ну да. Диана. Вся в белом и в серебре. Столь же лучезарная, далекая, благостная. Королева ночи, сама Луна. Конечно, джентльмены, именно королеве Елизавете мы посвящаем свои стихи. И, конечно, джентльмены, — добавил Рейли, наклоняясь вперед, — конечно, некоторые из нас прекрасно потрудились над стихами к сладкой Лиззи. Ха-ха-ха-ха…
Если болтовня в трактире переходила к придворным сплетням, Руис пропускал их мимо ушей. Его всё меньше интересовал Рейли и другие придворные, страстно желавшие выслужиться. Конкуренция и бессердечные честолюбивые планы, как бы подобраться к королеве поближе — всё это раздражало его. Но самым худшим были сплетни. Ему не было дела до того, девственница она или нет. Ей же пятьдесят шесть лет! Бэкон никогда не стал бы разглагольствовать о такой чепухе. Он всегда мог рассказать что-то действительно интересное. Я должен разыскать его и поблагодарить за всё, что он сделал для меня. Если бы не Фрэнсис, я бы никогда не получил денежного содержания от тайного совета. И ото всех я слышу, что королева ни за что не вызвала бы меня в свои покои, не настаивай он на встрече. Он смог переубедить ее. Я должен рассказать ему о нашей встрече.
— Сначала я увидел ее в большой зале, где пылал камин. На ней был темно-рыжий парик, украшенный лентами и драгоценными камнями, и хотя ее лицо было лицом старухи, а шея покрыта морщинами, грудь еще хранила нежность и белизну, а фигура — красоту пропорций. На ней было белое одеяние из тафты, на красной подкладке, с орнаментом из жемчуга и рубинов. Она была очень элегантна и приветлива. Она жаловалась, что от пламени идет слишком сильный жар, и распорядилась, чтобы сбили огонь. Мы подошли к окну, и она всё время распускала длинные завязки на своем одеянии. В целом всё это напугало меня. Видите ли, Фрэнсис, ее одеяние завязывалось спереди. Она держала концы завязок в руках и, когда говорила, распускала их, так что я мог видеть под ним белое атласное платье, а под платьем — батистовую сорочку и, наконец, ее живот, до самого пупа. Конечно, во всем остальном ее разум функционировал с привычной остротой, и мы проговорили два часа или больше. Мой вывод таков: она — великая принцесса и знает всё.
Бэкон убеждал Елизавету забыть о конфликте, встретиться с Кортесом и признать, сколько он сделал для нее. Он позаботился о том, чтобы тайный совет наградил Руиса пожизненным обеспечением. У двоих мужчин возникла странная связь. Руис считал, что Фрэнсис — настоящий кладезь, человек невероятного ума и высоких стандартов, с которым он мог проводить дни напролет: но Фрэнсис никак не мог понять, почему его так влечет к этому темноволосому, неразговорчивому иностранцу. Он решил довериться чувствам. Движению души, в которое ему не хотелось вмешиваться. Он наблюдал, как Руис годами отказывается от нахождения при дворе, даже к трактирам он потерял интерес. Всё чаще Руис оставался на небольшой ферме, которую он арендовал в Бате. Фрэнсис приезжал к нему на выходные, привозил книги, новости и свежие размышления. Они гуляли по окрестностям, дегустируя последнее увлечение Руиса: он сам выращивал вишни и абрикосы. На год они прекратили встречи, а когда Руис вернулся из Голландии с молодой невестой-испанкой, Фрэнсис ничего ему не сказал. У них всегда хватало тем для беседы, а некоторые предметы были слишком запутанны, чтобы углубляться в них, даже близким друзьям. Когда у молодой четы появились дети, Фрэнсис молча наблюдал за тем, как Руис дает первенцу имя Авраам, а второму ребенку — имя Моисей. Этот последний изощренный отголосок мести едва ли был понятен стороннему наблюдателю. Впрочем, вскоре Руис исчез из жизни Фрэнсиса. Мальчики вместе с матерью вернулись в Голландию, когда Руис внезапно скончался в возрасте сорока трех лет. После его смерти пожизненное содержание было аннулировано, и его семья попросила убежища в стране, которая однажды им его уже предоставила. Многие испанские евреи осели в Голландии после массовых изгнаний 1492 года. Теперь Кортесы без усилий смогли снова поселиться там, и были приняты, и ассимилировались в среде сефардов. Через несколько поколений история Руиса Кортеса была забыта. От отцов к сыновьям передавались только имена предков. А имена — уже не история. Родриго никогда не слышал о Руисе. Он знал только, что приблизительно в 1915 году его дедушка и дядя прибыли в Америку. Они ехали на поезде через всю страну, так далеко, как позволяли им финансы, — в Кливленд. Проработав несколько лет на сталелитейном заводе, они накопили достаточно денег, чтобы открыть небольшой бизнес. Вначале дело шло неуверенно. Химчистка была относительно новым типом услуги, которая избавляла каждую хорошую хозяйку от одной из домашних обязанностей. Когда родился Родриго, бизнес уже проявлял признаки стабильности. Сверхурочная работа и бережливость его отца дали свои плоды. Так они перебрались из грязного гетто на окраину — в Берию. О том, что было до дедушки Кортеса, Родриго знал мало и не интересовался этим. Истории сефардов и кровные узы и запутанные связи и чувства людей; всё это была вотчина Шарлотты. Казалось, ей никогда не надоедали истории. Одни сменяли другие, и она срывалась с места и отправлялась в путешествие. Лондон, Марокко, Рим, Индия, Париж, Германия, а потом назад. Даже если он точно не знал, чем она занимается в данный момент, было очевидно — всё это не просто ее каприз. Ею двигала непреклонная решимость или что-то вроде того. Да, именно так — непреклонная решимость. Это он понимал, даже если остальное казалось ему бессмысленным…
Вот, например, этот персонаж, месье Лепренс. Он на редкость безумный малый. Конечно, я встречался с ним всего один раз. Но одного раза мне хватило. Это было странное зрелище. Мы пришли к нему днем, но там будто царила кромешная ночь. Его комнату освещала лишь пара свечей, было темно, хоть глаз выколи. От запаха я чуть не потерял сознание. Такие у меня были первые впечатления. Воздух словно можно было резать ножом, такой густой раздавался аромат кофе, специй, благовоний — и страшно подумать, чего еще. Когда мои глаза наконец привыкли к темноте, я увидел, что комната завалена стопками книг, кипами бумаг и грудами ковров, которые валяются повсюду. В дебрях этих залежей были протоптаны тропы. Одна из них вела в дальнюю часть комнаты, и там я увидел его — сидящим на полу у кофейного столика. Он окликнул Шарлотту, приглашая нас подсесть к столу. В этот момент я уже понял, что он — один из тех, кто снует по Нью-Йорку с огромной вещевой сумкой. Мне всегда было интересно, где они прячут награбленное добро и всякую рухлядь. Теперь я это узнал. Ни его слова, ни поступки не могли исправить первого впечатления, что передо мной — чокнутый барахольщик, который коротает свои печальные дни в подсобке «Джем спа», предаваясь порокам. Я бы и запомнил его таким, если бы не его глаза. В моей памяти и по сей день жив образ этого человека у большого самовара. Он приготовил нам кофе, превратив этот процесс в настоящее представление. Долго колдовал над самоваром, а затем, когда кофе приготовился, перелил его в обшарпанный термос, из которого стал разливать по жестяным чашкам. Совершая этот ритуал, он не обращал на меня никакого внимания. Время от времени он ласково трепал Шарлотту по руке и называл ее Круглолицей. Пока мы пили кофе, он изредка впадал в дремоту, но всякий раз вздрагивал и отгонял сонливость. Когда он отрывался от чашки и поднимал свою большую голову, я чувствовал на себе его долгий взгляд. Вот чего мне никогда не забыть: его глаза. У него были глубокие, причудливые глаза, и я был рад встретить человека с такими необыкновенными глазами. Эти глаза смягчали то глупое впечатление, которое производил на меня месье Лепренс, этот большой герой Шарлотты. Но вскоре он вновь задремал, и мы ушли. «Иногда он бывает и таким», — сказала Шарлотта. Я пропустил это мимо ушей и больше к этой теме не возвращался. Я знал, что она иногда его навещает. Я всегда мог определить, когда это происходило. Она возвращалась от него, вдохновленная то одной, то другой его абсурдной теорией. Возможно, она и сейчас с ним. А может быть, нет. Возможно, она с кем-то другим. Он обнимал ее теплую, спящую. Она обнимала его. Они шептали друг другу всякие нежности. Или ужинали вместе в ресторане. В любимом ресторане. У них есть общие любимые места, шутки, секреты…
Родриго прислушался к себе — не слишком ли его заносит? Ему не нравилось тяжелое чувство, которое подступало, когда он давал мыслям свободно течь. «Итак, мы не виделись несколько дней, — подумал он. — И что с того?» Сейчас он предпочитал думать, что у нее куча дел. Как и у него. Нужно разобрать целую кипу счетов и писем. Родриго вернулся к мыслям о делах. Он и без тяжести мог прожить.
Шарлотте нравилась внимательность Родриго. Не только внимательность по отношению к ней. Как он делает свое дело, как относится к своей музыке. Это было не похоже на ее старые предрассудки о целеустремленности. Она постепенно отказалась от своих привычных представлений о вещах (например, что амбиции — это эгоизм, а быть целеустремленным — значит принести себя в жертву). Такой подход вынуждал человека стать кем-то — то есть реализовать одну из граней, пренебрегая остальным. Всё больше и больше возможностей отсекалось — до тех пор, пока выбор не исчезал совсем. Оставался только один путь — идти к своей цели, становиться кем-то. Что плохо: эта колея когда-нибудь обрывалась, приводя туда, где в конечном счете оказываются все — в том числе те, кто кем-то стал. Что хуже всего: те, кто стал кем-то и сделал себе имя, живут и после смерти. Они оставляют после себя доказательства своей значимости. Следы на песке. Вечные следы. Вот что действительно страшно. И следы не обрываются. Стаи голодных волков идут по следу, выслеживают того, кто кем-то стал, выкапывают его из могилы, тщательно перебирают кости и прах, извлекая на свет доказательства значимости. Вот что самое страшное: бессмертные тени. К счастью, тут Родриго был согласен с Шарлоттой. В нем не было того, что так ее пугало. Нет, в нем не было того нечеловеческого, что заставляет людей ставить себе памятники при жизни. Вот что самое лучшее: ни амбиции, ни целеустремленность Родриго не превращали его в одностороннего человека. Он просто шел по своему пути, и его не беспокоило, что она выбирает другой.
Было непросто научиться принимать неожиданности. Родриго всегда считал, что стремиться к разнообразию — значит размениваться на мелочи. Много таких примеров он встречал в мире музыки. Многогранность зачастую оборачивалась посредственностью. Он привык наблюдать, как люди попусту растрачивают свой талант. А потом он встретил Шарлотту. Он не мог точно определить, что за человек она была. Она, как хамелеон, без конца меняла цвет. А он, как детектив, искал потерянный ключ к разгадке. Они были разными. Она была как вода — он сохранял твердость; она не отличалась прямотой — а он был прямолинеен, с трудом отпускал устаревшие модели поведения. Она была честолюбивой и амбициозной, но не бралась за всё подряд. Он предпочитал постоянство, но не шел по проторенной колее. В конце концов они сдались. Они полюбили друг друга.
Всё это требовало времени.
Они не сразу приняли узы любви. Узы были тошнотворными, а любовь в них — сомнительной. Она включала в себя тысячи вещей, которые их не интересовали: обладание, верность, обязательства, компромиссы, договоренности. Она включала в себя стирку, походы в магазин, приготовление пищи, покупку вещей, совместные поступки каждый день. А если любовь не превратит ваши дни в серую, обыденную, пошлую массу, то она сведет вас с ума. Она доведет вас до лихорадки, большие чувства испепелят и бросят вас в омут. Вас подхватит и унесет темная, разрушительная сила, которая неотвратимо завлекает всё в пучину горя. Любовь — это мучительно, любовь — это скучно, любовь — это тема, которой избегала даже Шарлотта. Она терпеть не могла крайностей любви. Она сказала Родриго, что им нужно отказаться от всего. Отбросить прежние нелепые модели. Они не должны походить на своих родителей, которых связывало совместное коротание дней в ожидании смерти. Они не должны быть безумными, слепыми или умирать за любовь. Не следует считать смерть главной целью любви и позволять ей витать вокруг. Самое время жить, жить, жить. Наступила эпоха справедливых сделок…
Что это значит?
Иногда Родриго приходилось прерывать быструю речь Шарлотты и просить ее объяснить.
Она сказала: это значит, что дело не должно доходить до драки. Конечно, шла война. И постоянное безразличие к беднякам, чернокожим, женщинам, меньшинствам; весь мир стал похож на выгребную яму с ядовитыми отбросами; слишком много людей, не хватало пищи, безрассудные политические решения принимались за закрытыми дверями и потом просачивались в народные массы. Но это не должно было коснуться тебя. Повсюду было дерьмо и мусор, но вовсе необязательно быть погребенным под этими завалами. Ты мог жить в быстром темпе, опережая события. Можно было танцевать джигу, переступая через дерьмо, обходя его стороной, — пока — упс! — ты снова не вляпался. Всё в порядке. У тебя есть право на ошибку. Только не останавливайся. Не дай делу дойти до драки. Ты можешь проскользнуть между кучами грязи. Ты можешь не замараться.
Иногда у Родриго возникало еще больше вопросов. Ты обмениваешь чувство ответственности на собственные интересы? Вот что значит «справедливая сделка»? Когда тебе кажется, что ты становишься гибкой, не значит ли это, что ты действуешь слишком жестко и быстро? Непродуктивно?
Она сказала: это значит, что Америка — не самое плохое место для жизни, а времена сейчас не самые трудные. Посмотри вокруг. Семидесятые годы! Денег достаточно, так что даже мы можем откладывать на черный день. Мы можем делать то, что захотим. Остаются места, где можно найти себе угол или создать его самим. Можно быть разборчивыми и выстроить жизнь, которая не будет спланирована заранее или навязана извне. Энергия, информация — всё к нашим услугам. От нас требуется только использовать это в работе и в жизни. Время от времени, когда я возвращаюсь из путешествий, я думаю, что уезжать бессмысленно. Всё, что нам нужно, есть прямо здесь, в этой стране. Если ты чего-то хочешь, то можешь это получить.
Итак, они наконец высокопарно говорят о вопросах национализма?
Нет. Она сказала, что самое время всё отпустить. То есть справедливые сделки нужно совершать ближе к дому. Возможно, лучше начать с себя. Она больше не придерживалась странного мнения, что целеустремленные люди — это монстры, которые зарываются всё глубже в колею. Глядя на его жизнь, она поняла, что может быть и по-другому. И она помогла ему кое-что понять. Они оба переросли свои прежние страхи. Ее страх перед спокойной предопределенностью. Его страх растрачивать себя по мелочам. Требовалось время, но за годы они достаточно повзрослели, чтобы принять во внимание свои отличия друг от друга.
К 1974 году «Домашний орган» имел значительную для такого издания аудиторию. Около шести тысяч пятисот подписчиков. Вообще-то подобных изданий больше не было. Шарлотта не видела необходимости в редакционной политике. Если получалось интересно, этого было вполне достаточно. Иногда газета печатала материалы о злободневных вещах. Иногда — о вещах туманных и малопонятных.
Ей часто приходилось отправляться далеко, чтобы сделать следующий номер. Она уезжала в путешествия, проводила долгие месяцы вдали от Родриго. Потом она возвращалась со специальным выпуском о лаборатории солнечной энергии в Пиренеях или Фестивале света в Бодхгайя. Однажды она сказала Родриго, что хотела бы быть как свет: он может распространяться во всех направлениях; это что-то сильное, но нематериальное. В этом нет ничего высокопарного, сказала она. Были свои преимущества в том, чтобы быть невидимкой, как хамелеон. Это помогало ей размывать границы между жизнью и работой. Родриго понял, что невозможно определить, что было раньше: это было похоже на загадку про курицу и яйцо. «Домашний орган» стал ее способом сделать эту границу неразличимой. Она публиковала в газете решительно всё, и на протяжении всего времени их знакомства всё это получалось весьма интересным. Номера выходили четыре раза в год, и ему нравилось, что они — часть ее жизни, практически плоды от древа ее жизни. Но ей не особо нравились словесные плоды. Потому что самое лучшее — это погружение в работу. Уезжать и, пребывая в другом месте, углубляться в новый сюжет, почти становиться им. Или же присваивать его настолько, насколько возможно, находясь там. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я действительно проживаю мои сюжеты, то, что меня интересует, и в конце концов я словно прожила много жизней, а не одну. Это не просто фантазия. И не просто результат, который по сути — сухой остаток, огрызок реальных событий. Это же газета, черт подери. Люди заворачивают в нее мусор. Они газетой разжигают костер. Газета становится дымом. Ее рвут на мелкие кусочки, которые становятся еще мельче на дне реки Гудзон и уплывают к морю.
В общем, ей нравилось думать, что ручейки ее трудов могут просочиться к водам Мирового океана. Родриго привык к ее теориям. Даже к тем, в которых было не слишком много смысла. Например, к той ерунде, которую она несла, когда приходила от месье Лепренса. То она говорила об астральных телах, то о потенциале событий. Последняя теория была о луне.
— Ничего не понятно. Объясни-ка еще раз.
— Вот, — сказала она. — Лучше прочитай. Так проще.
«Жизнь на земле питает луну. Всё живое на земле: люди, звери, растения — это пища для луны. Это гигантское существо, которое питается всем, что живет и произрастает на земле. Луна не может существовать без жизни на земле, а всё живое на земле не может существовать без луны».
— Да, теперь понятно. Но это полная чушь.
— Правда?
— Я тебя умоляю. Ты что, в это веришь?
— Верю? Я не знаю. Возможно, в этом не больше смысла, чем во всём остальном. Я не против быть чьей-то пищей.
— Зато я против.
— У тебя нет права голоса.
— Что это значит?
— Тут еще кое-что есть…
— Хорошо. Давай сюда. Дай мне насладиться по полной.
Он читает еще немного дальше: «Человек, подобно другим живым существам, не может, при нормальных условиях, освободиться от луны. Все его движения, а значит, и все его поступки контролирует луна. Если он убивает другого человека, это делает луна; если он приносит себя в жертву, это тоже делает луна. Все злодейства, все преступления, все акты самопожертвования, все героические подвиги, а также все обыкновенные поступки контролирует луна».
— Ну хорошо. Вот что я думаю. Даже если отвлечься от того, что я невысокого мнения о месье Лепренсе, я думаю, что это полное фуфло. Получается, что можно не брать на себя ответственность. Эта теория оправдывает убийство. Это самая ничтожная из всех его теорий.
Ей не нравилось слово «теория». Месье Лепренс говорил, что теории ставят человека в центр бытия; всё существует для человека: и солнце, и звезды, и луна, и земля. Теории гласят, что люди при желании могут изменить свою жизнь, организовать ее по рациональным принципам.
Всё время появляются новые теории, которые рождают обратные теории. Один человек выдвигает теорию. Другой немедленно выдвигает противоположную. И оба думают, что все им поверят. Он не верил в теории.
Во что же тогда?
Ей пора было идти.
Родриго хотел, чтобы она осталась и поговорила с ним. Какого хуя он должен думать о луне, когда произошедшее на Канал-стрит обернулось для него катастрофой? Он хотел рассказать ей, что звукозаписывающая компания аннулировала его контракт. В ближайшие полгода у него не будет концертов. Он оказался на мели, он был немного раздосадован, ему хотелось выговориться. Возможно, она не хотела слушать о его проблемах. В последнее время она казалась такой занятой и отрешенной. Он не мог завладеть ее вниманием. Она теряла терпение и уходила. Они слишком много говорили, всё это устарело. Мне нужен новый, свежий взгляд. Я хочу быть с тем, кто ничего не знает. Она никогда не была со мной прежде. Я ощущаю эту тревожную дрожь, когда мы только раздеваемся. Я занимаюсь с ней любовью, и этот полностью известный, привычный акт наполняется страстью и новизной. Я делаю это впервые. Всё — новое. Я готовлю завтрак, старый добрый завтрак, но на вкус это — просто фантастика. Она считает, что это великолепно, она наблюдает за мной. Все мои привычные утренние действия строятся на одной точке опоры — на ее присутствии. Я никогда еще не готовил омлет или яичницу, никогда не сидел за столом и не говорил этих вещей. Ее глаза горят, она вся обратилась в слух. Я могу всё это рассказать ей. Когда она рядом, я становлюсь другим человеком. Она внимательна. Она часто улыбается. Она отклоняется от графика, перестраивает свой день, чтобы побыть со мной.
Никто не замечает, когда точки опоры начинают рушиться. Ты очень занят. Ты в городе, заводишь новые знакомства, зарабатываешь деньги. Ты взрослеешь. Работа идет на лад и всё остальное тоже. Кажется, наконец что-то замаячило на горизонте. Война подходит к концу, экономика стабильна, вокруг так много воодушевления и позитивной энергии. Люди полны этой энергией, и когда ты идешь по улице, ты можешь всё это почувствовать, это всё реально. Они так быстротечны, эти годы взросления. Сегодня ты уже не чувствуешь этой энергии. Надежды рассыпаются в прах. Ты не можешь заработать ни цента, а всё твоё время занято выживанием… работа, работа, работа, ты тупеешь от усталости.
Больше ни на что не остается времени. Всегда есть что-то важнее. Так всегда происходит, когда любовь длилась много лет и стала старой. Она может подождать, всё остальное важнее. Ей достаются небольшие крохи, остатки времени. Теперь он зевает и чуть не падает со стула от скуки и усталости, если я пытаюсь сказать ему что-то важное. Он выглядит таким измученным и нервным. Мне больше не нужна его старая любовь. Я хочу встречаться глазами со своим любимым. Переглядываться через всю комнату так, что никто и не заметит. Смотреть друг на друга так, как больше не смотрим ни на кого. Он молод. Он наклоняется ко мне, когда я говорю, — наклоняется больше, чем нужно, чтобы прильнуть ко мне. Мы всегда ближе, чем того требует ситуация. Наши бедра соприкасаются. Никто не смотрит на нас, никто больше не существует для нас. Соприкосновения наших ладоней под столом, секретные улыбки, объятия при любом случае. Потрогай меня. Нет. Не так. Вот здесь, потрогай меня вот здесь. Я люблю медленно, чтобы можно было расслабиться, стать влажной. Мягче, вот так, сделай это рукой и ртом. Прикоснись языком, там всё уже влажное, и внутри и снаружи, и двигай языком. Мне так нравится чувствовать твой язык, вот здесь, на небольшом и затвердевшем бугорке. Еще. Не останавливайся, прикасайся ко мне. Я хочу, чтобы ты обнял меня, я хочу, чтобы ты вошел в меня. Двигайся медленнее. Я хочу делать это сама, чтобы это продлилось долго. Я покажу тебе, как делать это долго. Все мальчики это могут. Вот почему ты такой милый. Ты мне нравишься, больше всех. Я хочу держать тебя во рту, пока моя киска не захочет тебя снова. Ты узнаешь, когда это произойдет, — я прильну к тебе всем телом. Не кончай, еще не время. Кончи, когда я скажу, что ты можешь кончить.
Они никогда не заставят себя ждать. Даже в поздний час мальчики всегда бодры и полны нетерпения. Они отходят от графика, чтобы попасть на свидание с тобой. Давай встретимся в ресторане, на вечеринке. Приходи ко мне домой. Иди сюда, а теперь уходи. Ты можешь сказать мальчикам «бай-бай, время вышло». Это безопасно. Там, откуда они приходят, остается еще больше.
Новая любовь бросит всё, чтобы прийти и послушать и быть со мной. Она нежная и ласковая. Она говорит слова, в которые сама не верит, потому что хочет тебе понравиться. Если она будет похожа на тебя, она понравится тебе. Она соглашается с тобой. Если ты будешь интересна ей, она станет интересна тебе. Ты трахаешься, ты ешь, ты закрываешь за ней дверь. Она счастлива.
Она уходит прочь.
Мальчики уходят прочь.
Со старой любовью всё не так просто. Она удерживает тебя. Всё сложно. А потом, внезапно, уже не сложно. Кто-то кричит. Хлопает дверь. Никаких важных деталей. Всегда одна и та же старая история: всё кончено. Всегда поздняя ночь, и кто-то идет домой один.
Ты идешь по улице, это самая уродливая улица, которую ты когда-либо видел. Уличные огни проливают свой уродский свет на уродливых людей. Все куда-то идут, их карманы набиты деньгами. Они идут в рестораны, источающие божественный аромат в ночном воздухе. В витринах громоздятся торты больше метра высотой. Глазурь мерцает вслед прохожим. В конце концов ты уходишь с улицы и взбираешься по уродским ступеням уродливого дома и открываешь уродливую дверь с облезающей краской. Ты заходишь внутрь.
Какая-то квартира. Восемь лет жизни, чтобы оказаться в этой вонючей дыре! Я знаю только дыры. Я в них поднаторел, я мог бы написать книгу о дырах. Дыры в ботинках, дыры в карманах, да и живу я в дыре. Теперь во мне зияет большая дыра прямо здесь, в груди. С меня хватит. Заполню ее коньяком и немного посплю. А Шарлотта пусть катится ко всем чертям. Мне не нужно, чтобы ко всему прочему меня донимали жалобами мои друзья. Я уже достаточно наслушался. На меня вываливалось слишком много дерьма. Я устал от дерьма, которое перекатывается из города в город, как шар скарабея, размазывается по социальной лестнице, вываливается на улицы, взбирается по ступенькам, стучит в дверь, заходит в мой дом, говорит: здравствуйте. Я политик. Нет у нас никакой депрессии, и она обязательно скоро закончится. Удачи. Здравствуйте. Я из звукозаписывающей компании. Мы аннулируем ваш контракт на запись альбома. Увидимся в следующем году. Привет. Уже пять лет я твой лучший друг. Иди к черту. Она уходит, хлопнув дверью, вот и всё. Шарлотта…
Ведра слез, ведра дождей.
Ведрами льет у меня из ушей.
Ведра с лунным светом в руках моих.
Всю любовь, что мог, я отдал за двоих.
Я люблю твои пальцы и улыбку твою.
Как ты поводишь бедрами, я люблю.
Я люблю твой невозмутимый взор.
Ты сеешь внутри меня раздор.
…Кто-то стучится в дверь.
Сильные, настойчивые удары пытаются пробиться сквозь пелену пьяных грез Родриго. Он неподвижен.
Снова стучат. Сильнее.
Стук раздается в его голове. Дождь стучит по крыше. Всё здание начинает трястись и вздрагивать. Родриго лежит на огромном барабане, и каждый уличный звук проходит сквозь него. Бум, бум, бум. Он не встает с постели.
— Родриго. Это я. Шарлотта.
Бум, бум — поет дыра в его груди. «Я не вынесу этого. Я не готов. Я не знаю, что произойдет, если я увижу ее».
— Уходи, уходи, — бормочет он, переворачиваясь на бок.
Под дверью Родриго может разглядеть два темных пятна. Долгое время они неподвижны. Потом в комнату, проскользнув под дверью, влетает белый конверт, и два темных пятна пропадают.
Он ползет к двери, открывает конверт.
«Милый Родди,
всё это какая-то нелепая шутка. Нам нужно поговорить. Я тебе сейчас звонила, но мне никто не ответил. Поэтому я пишу. Позвони мне, как только получишь письмо. Шарлотта».
Письмо падает на пол, а Родриго ползет назад, за коньяком.
Отныне он хочет ползать всегда, оставаться в темном безопасном убежище. Забаррикадировать вход. Повесить на дверь табличку «Вход воспрещен». «Не приближаться».
Жить ползком и в конце концов оказаться в теплом, текучем состоянии небытия, где ничего не происходит, ничего не причиняет боли. Где всё одного цвета — серого. Бескрайний серый океан, в который можно погрузиться с головой.
Ты погружаешь туда по частям:
Шарлотту. Всё, что осталось от дружбы длиною в пять лет.
Несколько промокших нотных листков. И твое пианино. Белые и черные клавиши плывут, покачиваясь на волнах.
А вот и Феликс, твой кот. Прощай, маленькое недоразумение. Ты назвал его Феликсом в честь Мендельсона. Так ты посмеялся над композитором. Это твой способ отмахнуться от пугающих идей о бессмертии — о твоем бессмертии — или о бессмертии Феликса — или о бессмертии вообще.
Шарлотта — это тоже серьезно. Она снова перед тобой.
Ты не можешь избавиться от нее.
От ее улыбки.
От ее глаз, больших, широко распахнутых.
От ее голоса. Как он меняется, когда она умничает или говорит о любви.
От того, как она кладет руку на подбородок, когда думает, слушает тебя и когда вы общаетесь. Ты мог рассказать ей обо всём. У вас не было никаких секретов друг от друга. Ты мог довериться ей.
Она тронула тебя. Именно так, как ты хотел. Она знала, как удержать тебя. И это тебя не пугало.
Ты не чувствовал, что нужно сдерживать какую-то часть себя. Казалось естественным отдавать всего себя без остатка. Ты еще никогда так не делал. И когда это случилось, ты начал понимать, что значит постоянно отдавать. Что значит отпускать. Бесстрашно отдавать себя другому. Когда вы разговаривали, или ели, или трахались, или просто были рядом, чем-то заняты или не заняты ничем — тебе было легко с ней.
Тебя даже не смущало, если ты обнаруживал, что говоришь нечто очень странное. О вещах, о которых не так уж много знаешь. О душе. Колледж или движение за эмансипацию женщин ничего не могли тебе рассказать о душе. Никого не интересовали такие вопросы, как душа или дух. Ей ты мог легко сказать, что она тронула твою душу. И прибавить, что она может делать это и дальше, сколько пожелает. Потому что этому нет конца. У тебя был предел, а у этого духа его не было.
Вот причина борьбы.
Ты хочешь сдаться, остаться навсегда в подполье, в своем темном убежище. Но этот дух — не хочет.
То одна, то другая эмоция захватывали тебя, когда ты переезжал с места на место. Ты сам всегда был причиной перемен. И даже сейчас ты хочешь нести ответственность за всё. Ты хочешь быть тем самым, кто скажет, что это — конец света: потому, что она ушла; потому, что нет денег; потому, что 76-й — это отстой; по всем причинам, которые приходят тебе в голову.
Но у тебя больше нет права голоса. Потому что ты — уже не в том, маленьком, мире, который меняется постепенно. Как только ты сделал шаг сюда, в царство темноты, здесь уже начали действовать силы, которые движутся независимо от тебя. Они проходят сквозь стены этого мира и многих других, пока не достигнут своего неведомого пункта назначения.
Поэтому твоя борьба закончилась. Теперь ты стал частью этого. Нет времени строить догадки или планы. Когда сгущается тьма, нет времени ни на что.
Бесформенная форма стремительно несется сквозь бесконечность со скоростью, запредельной для человеческого понимания.
Блуждая между измерениями, бесформенная форма погружается в них.
Ею движут столь мощные, неудержимые чары, что она может разрушить любые обстоятельства, любые барьеры, что встают на ее пути.
Затем, наконец, энергия чар иссякает, и тогда стремительная сущность замедляет свой ход, чтобы обрести покой в ином измерении.
Медленно, беззвучно бесплотная форма принимает очертания человека, и ее полет подходит к концу, на непостижимом расстоянии от мира, который нам известен под названием Земля.
А потом, завершив путешествие, Родриго снова открывает свои пронзительные глаза.