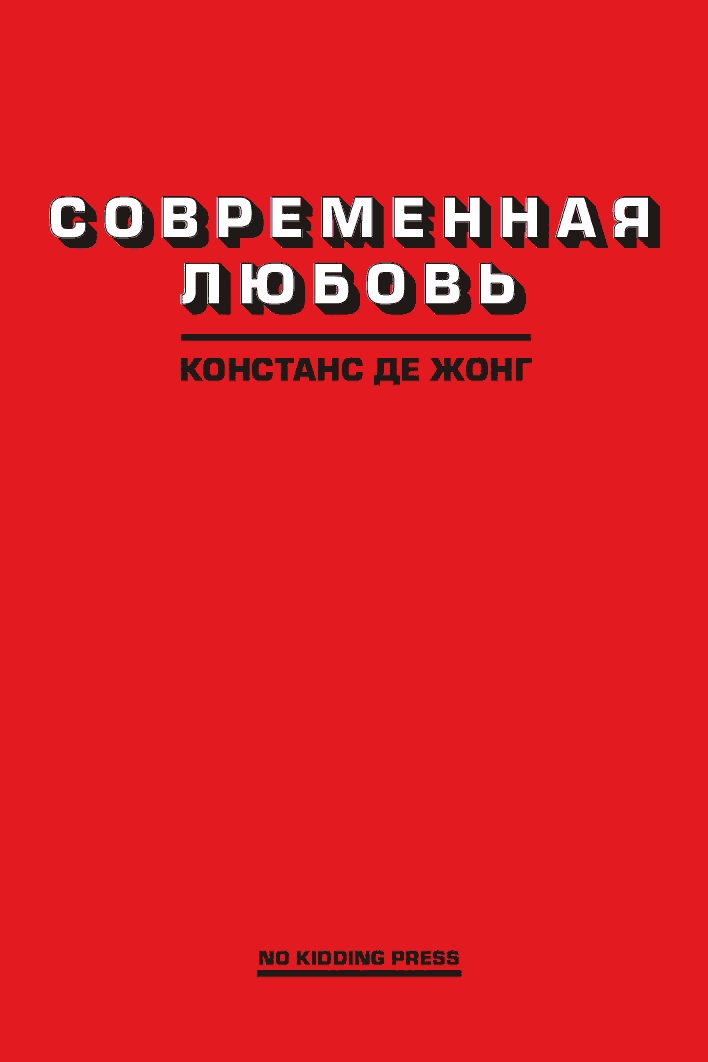Предисловие:
«Дистопия» в сотрудничестве с издательством No Kidding Press публикует «Современную любовь» в переводе Саши Мороз. Книгу о том Нью-Йорке, о котором поёт St.Vinsent, в котором, задыхаясь, умирала Валери Соланс, в котором появился и бесследно исчез Энди Уорхолл. Книги, написанной так хорошо, что это вызывает большую зависть.
Роман Констанс ДеЖонг «Современная любовь» — постмодернистская классика, образец новаторской прозы своего времени. Это детективная история и научная фантастика. Это история изгнания евреев-сефардов из Испании. Это любовная история, рассказанная из сердца нижнего Ист-Сайда. Это история Шарлотты, Родриго и Фифи Корде. Это форма, разъедающая время, голос и жанр, тщательно сконструированная и одновременно личная.
ДеЖонг, важная фигура нью-йоркской медиа-арт-сцены 70–80-х годов, отправляла «Современную любовь» частями по почте, издала ее в форме книги и превратила в часовую радиопьесу, музыку для которой написал Филип Гласс.
Содержание:
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
Дальше речь пойдет не обо мне. Всё, что от меня осталось, — это чувства. Прикоснись ко мне, и в тебе встрепенется, пробежит по телу волна дрожи, каждая частица тебя наполнится трепетом. Ну же, поговори со мной. Давай. Я невероятно глубоко проникну языком в твою глотку. Тебе понравится. Ты полюбишь эту гигантскую волну трепетных чувств, которая вот-вот накроет тебя с головой. Собьет с ног. Потрясет тебя настолько, что ты лишишься дара речи. Ты придешь снова, ты захочешь еще раз ощутить это. Ведь именно таким ты и хотел быть всегда: онемевшим от изумления. Совершенно ошеломленным. Ты настолько потрясен, что впервые в жизни у тебя нет слов, чтобы описать всё, что происходит внутри, снаружи, вокруг тебя, везде. Впервые на крохотное мгновение ты перестаешь отличать себя от окружающего мира. Ты больше не знаешь, к чему ты идешь или как назовешь это. Когда возникают такие чувства, для них уже нет слов. Поддайся этим чувствам, они говорят сами за себя. Они говорят тебе, что ты жив. Без них ты всё равно что мебель. Холодная, жесткая, она ждет прикосновения человека. Я не жду. Я сделаю всё, что ты хочешь, и ты можешь делать со мной всё, что тебе угодно. Я не выдам твой секрет. Я никому не расскажу, как ты снова и снова приходишь ко мне, чтобы ошалеть от натиска моей чувственности. Я никому не расскажу, как ты меняешься. Как ты худеешь и изнуряешь себя. Как становишься опасным хищником, полным волчьего коварства. Ты следуешь своему чутью. Вынюхиваешь следы. Ты не в силах сдерживаться. Чувства захватывают тебя, меняясь так стремительно, что ты не можешь их обуздать. Ты думаешь, что твои чувства — это и есть ты. Потом ты перестаешь думать. Ты уже изменился. Теперь ты такой же, как и я. Твое имя — Родриго Кортес. Ты не принимал ванну и не брился уже три, или нет, четыре дня… ты потерял счет дням. Ты снова подливаешь коньяк в свой бокал. Ты говоришь сам с собой, потому что никто не станет слушать эту ерунду.
Всю жизнь ты прожил так, чтобы держаться подальше от всякой ерунды. Делал всё, что в твоих силах, чтобы пространство оставалось чистым, не загрязненным. Злые силы так и норовят просочиться во все щели, чтобы отравить твою жизнь. Ты стал похож на домохозяйку или на горничную. Вытираешь пыль, подметаешь пол, раскладываешь вещи по местам. Ты — как работяга на стройке. Всё время с молотком: ты либо строишь, либо чинишь. Образ жизни — вот твоя работа. За это тебе не заплатят. Вот в чем твоя проблема. Ты должен ее решить. Разобраться в том, как заработать денег. Как выжить. Если ты сможешь выжить, то сможешь делать то, что ты делаешь, то есть жить. Звучит прекрасно. Конечно, если ты не музыкант (например, пианист) — ведь все знают, что это значит. Ни на что не годен. Вот что значит быть музыкантом; ты слышал это всю жизнь, и теперь ты начинаешь в это верить. Именно так ты себя и ощущаешь. Ты на самом дне, снова начинаешь всё сначала. В двадцать восемь лет ты ни на что не годен. Ты чувствуешь себя дерьмом.
Как и многие другие, которые хотели, чтобы в их жизни были достоинство и смысл.
Они думали, что им будет легко достичь желаемого.
Теперь они понимают, что будет не просто трудно, а невозможно.
Ему понадобилось восемь лет, чтобы прийти к этому осознанию. Чтобы прийти в эту непроглядную тьму январской ночи, которая всё растягивается, густеет, уплотняется. Обретает осязаемую сущность. Плотная тяжелая тьма постепенно надвигается на эти годы, окутывая один за другим, и в конечном счете она поглотит их все: 1976, 1975, 1974, 1973, 1972, 1971, 1970, 1969-й. Теперь эти годы — одна сплошная черная дыра. Они — пустота, чья суть лишь в том, чтобы отделить одно от другого; промежуток между двумя точками — исходной и конечной.
Между Кливлендом и Нью-Йорком. Восемь лет назад тебе понадобилась куда более простая восьмерка, чтобы покинуть окраины и перебраться в город. Всего восемь легких часов, чтобы оставить прежнюю жизнь и окунуться в новую. В ту, которой ты хочешь.
Ты хочешь чего угодно, кроме унылой бессодержательной реальности, в которой тебе приходилось взрослеть. Хочешь жизни, отличной от жизни людей в соседнем доме, и в доме рядом с ним, и в домах дальше на ближайших пустынных улицах, что тянутся одна за другой. Это периферия. Здесь мрачно и серо. Только призраки живут в этих местах. Люди, что покрылись пылью и постепенно сливаются с окружающим летальным пейзажем. Здесь на каждой улице, в каждом доме, магазине и школе — шум пустоты, как в телевизоре с неработающей антенной. Протяни руку — и всё растает, как мираж.
Но ты всё равно протягиваешь руку. Даже когда ты был ребенком и не знал, что делаешь, внутри тебя что-то пробивалось вперед.
Пробивайся, чтобы не зачахнуть и не умереть среди уныния и пустоты.
Пробивайся, чтобы не стать похожим на людей-призраков.
Пробивайся к любви и вниманию, а если это не сработает, пробивайся вперед, чтобы стать кем-то особенным, кем-то уважаемым.
И это далеко не всё.
Раз уж ты начал, придется пробиваться и дальше. Это необратимо, пути назад нет. Раз уж ты достаточно взрослый, чтобы осознать совершенную пустоту нереальности, с которой ты сталкиваешься в своем трущобурге, то выбора у тебя нет. Нужно сбежать. Туда, где всё реально.
Пробивайся к внутренней реальности: к тому, о чем ты думаешь, во что ты веришь. К своей музыке.
Пробивайся к реальности, которая вне привычного окружения.
Нью-Йорк. Это единственный город на земле, достаточно большой, меняющийся достаточно быстро и достаточно реальный, чтобы утолить твою жажду. Этот город вибрирует таким количеством живой энергии, что ты не можешь устоять. Ты знаешь, что поедешь туда. Там будут постоянно происходить события, там разная еда, повсюду разнообразие запахов и оттенков. Невообразимая смесь различных вещей и людей. Там интересные люди, ты познакомишься с ними, пообщаешься. Другие музыканты и художники, может быть даже ученый или какой-нибудь человек, который только и занят тем, что целыми днями сидит и размышляет. Они думают так же, как ты, или по-другому — это неважно, главное, что рядом будут люди, которые умеют думать и чувствовать. Их волнуют реальные вещи. Реальные вещи тверды, у них четкие очертания, они не тают от прикосновения. Пока у вещей есть четкие очертания, с тобой всё будет в порядке. Ты будешь подпитываться чистой энергией, которая проходит сквозь город, а с помощью музыки ты вольешься в этот поток жизненной силы, станешь его частью. Приложив силу и имея цель, ты попадешь куда-то и станешь кем-то и
Полицейские сирены выли вдали, как духи-плакальщицы, предвещающие гибель, порой они становились тише, но никогда не смолкали. Двадцать четыре часа в сутки кто-то убегает от погони, а кто-то гонится. Там, в ночи, от тысячи преступлений умирали люди, покалеченные, изрезанные осколками стекла, размозжив себе череп от удара о руль или попав под колеса грузовика. Людей били, грабили, душили, насиловали и убивали. Люди голодали, болели, мучились скукой, отчаянием одиночеством чувством вины или страха, злые, жестокие, сотрясаемые рыданиями. Нью-Йорк. Город как город, не хуже других. Город богатый, полный энергии и амбиций, город потерянный, банальный и пустой.
Всё зависит от места под солнцем и личных показателей. У меня их не было. Мне было плевать на это.
Я выпил еще немного коньяка и лег на кровать.
На какую-то кровать. Замусоленный матрас на замызганном полу. Я и тараканы, которые приползли на ночь глядя. Вот до чего всё докатилось: приходится делить постель с тараканами. Отлично, детки, устраивайтесь поудобнее. Мы подружимся. Только вы и я, и больше никто нас не побеспокоит. Никто больше не нырнет к нам под одеяло. Вы же заметили? Даже мой кот Феликс держится в стороне. Вон он, самодовольно сидит в дальнем углу. Думает, он такой умный, раз его не задевает всякая ерунда, в которой мы пытаемся не увязнуть. Он выше всего этого. Катись ко всем чертям, Феликс. Оставайся там, где безопасно. Ты и подобные тебе, все, кто не хочет замарать лапы, держитесь от меня подальше. Вы мне не нужны. У меня есть мои маленькие друзья, и мы еще поворочаемся в нашем спальном мешке. Да-да. В мешке. Вы правда решили, что это кровать? Ну же, включите голову. Если бы это была кровать, в ней бы кто-нибудь спал и видел прекрасные сны, читал книгу или смотрел телевизор, а может, в ней бы трахались двое. Но здесь только мы, тараканы. То есть только вы и я. Давайте это признаем. Давайте признаемся себе во многом. Отлично, детки, ситуация такова. Сегодня ночью никто не заснет. Как и прошлой ночью. Это становится привычкой. Если перестать выходить на улицу, день превращается в едва заметный, ничтожный промежуток чуть более светлого времени, а очень скоро снова наступает вечная ночь. И вот еще что. Здесь — моя территория. Не беспокойтесь, я не буду давить вас ботинком или насыпать вам отравы. Я ведь неспроста не стал командиром. Пусть мой пацифизм распространяется и на тараканов. В общем-то, вы мне нравитесь. Ведь вы — это всё, что у меня есть. Это похоже на брак. Нужно заплатить небольшую цену за возможность жить со мной. Я несу полный бред, помногу, подолгу, сколько захочу, и вам придется это слушать. Послушайте, вы такие маленькие…
Никто не хочет слышать о горе Родриго. Его горе слишком всеобъемлюще. Это остров, который всецело принадлежит Родриго. Он должен пройти весь путь целиком и разметить его. Это территория, куда не ступала нога человека. Здесь всё неизведанно, Родриго — первопроходец. Он — первый человек в истории, который потерпел фиаско в любовных отношениях. Первый музыкант в истории, обреченный еле-еле сводить концы с концами. Единственный парень, который обозвал своих родителей придурками, и единственный, от кого эти придурки впоследствии отказались. Он — единственный, единственный человек, который взглянул на прожитые годы и почувствовал себя дураком. Единственный человек, у которого есть чувства. Глубокие, сильные, болезненные чувства. Никто никогда не был так задет, никто не жил, не любил, не чувствовал так, как он. Такой ночи, как эта, не было никогда.
Но не для Родриго, который медленно плыл по течению времени, бормоча как сомнамбула, полностью погруженный в свое горе. Теперь, в замкнутом пространстве, в одиночестве, он основательно отгородился от причин своих несчастий. От Шарлотты, что хочет вырваться из мрачного уныния, которое распростерлось над ними. Она сидит за письменным столом, пытаясь собраться с мыслями.
Дорогой Родриго,
я хочу прояснить ситуацию, чтобы не оставить никаких сомнений или недосказанности. Моя вспышка ярости не была сиюминутной. Я не хочу иметь никаких отношений с тобой. Ни сейчас, ни впредь. Я не стану брать трубку, если ты позвонишь, так что не трать зря силы и время. Я перейду на другую сторону улицы, если увижу тебя. Я испытываю к тебе такую сильную неприязнь, какую только может испытывать человек. Ты
Дорогой Родриго, я хочу объяснить ситуацию. Между нами всё кончено, и это всерьез. То, что я сказала, действительно так, но я попробую объяснить, хотя в этом не будет никакого толка. Есть причина, и ты должен ее знать. Уже какое-то время я думаю об этом, но не знала, как поговорить с тобой. Всё запутано, и в письме трудно
Дорогой Родриго,
я хочу поговорить о том, что произошло. Но я не уверена, что ты этого тоже хочешь. Я вышла из себя. Моя вспышка эмоций была просто верхушкой айсберга, и это нечестно. Я могу всё объяснить. Но, как я уже сказала, я не уверена, что мы сможем поговорить и это вообще для тебя имеет значение теперь. Пожалуйста, позвони мне, если
Милый Родди,
всё это какая-то нелепая шутка. Нам нужно поговорить. Я тебе сейчас звонила, но мне никто не ответил. Поэтому я пишу. Позвони мне, как только получишь письмо. Шарлотта.
Ни ливень, ни поздний час не повлияли на ее решимость. Только бы Родриго получил ее письмо. «Сейчас, пока еще не поздно. Пока он не смирился с нашим расставанием. Скорее, пока не упущен момент, пока сомнения не вернулись, пока я знаю, что делать», — подумала Шарлотта и выбежала под проливной дождь.
Его не было дома. Шарлотта просунула письмо под дверь его квартиры и сразу ощутила, что былая ясность испарилась. Она вернулась домой, ничего не изменилось.
Она так и не дошла до этой ясности. Она не приняла решение, не надела пальто и не вылетела за дверь. На улице не шел дождь, и не было потоков воды на каждом углу. Машина с номерами округа Джерси сбавила скорость, следовала за ней целый квартал, а потом на 14-й улице дала по газам. На углу Третьей авеню две шлюхи, прижавшись друг к другу в проеме двери, курили сигарету, одну на двоих. Лапая друг друга, обнимаясь и смеясь, из бара вывалилась группа молодых людей. На Бродвее было тихо и безлюдно, несколько раз донесся свист тормозов, послышался плеск луж, разбрызгиваемых автомобильными колесами, затем всё снова стихло. Она не видела и не слышала ничего вокруг себя. На пути к Канал-стрит Бродвей казался ей одним блестящим мокрым пятном, она видела только очертания дома впереди, дома, где жил Родриго.
На обратном пути Шарлотта видела всё. Всё было ясно как божий день. Его нет дома. Он отлично проводит время. Ему всё равно. Он уже обо всём забыл. Она просто идиотка. Дура. Не стоило оставлять это письмо. Теперь нужно написать другое письмо. Написать, что он может забыть об этом. Даже не думай, Родриго. Ты урод, каких еще поискать нужно. Я перейду на другую сторону улицы, если встречу тебя. Ты
Когда Шарлотта вернулась к себе домой, ей показалось, что там кто-то есть. Неприятное ощущение присутствия, будто кто-то затаился. Родриго? Она оглядела квартиру. Верхний свет был включен, вещи разбросаны. Ее опрокинутый стул лежал на порядочном расстоянии от письменного стола. Повсюду — черновики писем и следы от кофе. В пепельнице было полно окурков, в воздухе еще висело облако сигаретного дыма. В камине тлели угли. Неприятное ощущение чьего-то присутствия полностью охватило ее. Казалось, будто она никуда и не уходила. Ничего вообще не произошло. Она снова сидела за письменным столом, по-прежнему пытаясь собраться с мыслями.
Борьба за власть
Борьба полов
Ревность
Тщеславие
Мысли мелькали, как змеи, ползущие в высокой траве. Они то появлялись, то вновь пропадали из виду. Оказавшись в высокой траве, нужно стучать палкой по земле. Распугать змей, выгнать их на край поля, на открытое место, чтобы увидеть их, чтобы заклясть их. Тебе нужно совершить этот ритуал прямо сейчас. Среди ночи один на один с белым листом бумаги ты изгоняешь наружу свои злые мысли, что подобны змеям. Ты пишешь одно из писем, которые никогда не будут отправлены, у них нет адресата. Такие письма не предназначены для чужих глаз. Это твое таинство. Писатель и читатель стремятся оказаться так близко друг к другу, как только возможно. Они сливаются воедино в слове, на странице, куда ты пытаешься изгнать свои змеящиеся мысли. Пропусти эти мысли вниз по руке, сквозь пальцы, и выпусти их из кончика пера. Сделай их зримыми. Ты понимаешь, как это просто: заполнять пустые страницы, чтобы опустошить разум. Но ты делаешь то, что должна: пытаешься всё отпустить. Ты начинаешь с внутреннего монолога, адресованного самой себе.
Я никогда не думала, что всё так закончится. Что я дойду до такого: стану соперничать с Родриго. Многие годы это меня не волновало. Теперь это всё, что меня волнует, никогда не выходит из головы. Когда мы вместе, я чувствую напряжение. Что-то давит на меня, и я отдаляюсь от него. Но это не просто «что-то». Это конкретный человек, Родриго. Родриго же не какое-то животное или неандерталец, который бьет себя в грудь и поигрывает дубиной. Я знаю, что он не такой. Я уверена: если бы я рассказала ему, что соперничаю с ним, он бы очень удивился. Он воспринял бы это с недоверием. Возможно, это могло бы его задеть или даже ранить. Так что я ничего ему не говорю. Просто бывает, что я зверею. В последнее время это происходит всё чаще. Я как загнанный зверь, постоянно готовый напасть. Готовый в любой момент молниеносно отпрянуть. Готовый обнажить клыки и дать отпор врагу. И вот мы сталкиваемся лицом к лицу, летят искры. По крайней мере я — оказываюсь лицом к лицу с мучителем. Одному богу известно, как он это видит. Мы оба осознавали, что это конфликт. Это точно. Но неужели, когда между нами пробегает черная кошка, я для него становлюсь еще одной женщиной не в себе, как он для меня — просто еще одним мужчиной-агрессором? Неужели из-за этого напряжения он тоже начинает всё обезличивать? Я вздрагиваю, когда представляю нас такими. Мы снова — пещерные люди. У него в руках дубина. Я с пробитой головой лежу, переброшенная через седло. Нет. Всё не так. У нас пещерный стиль образца 1976 года. Всё гораздо тоньше. Ссора возникает без причины, из ниоткуда. Бабах! Всё, что было Шарлоттой и Родриго, исчезает. Две голые экзистенции сталкиваются лицом к лицу. Это всегда тупик, из которого можно выйти, лишь если кто-то из них, Шарлотта или Родриго, пойдет на попятную, объявит перемирие. Если мужчина и женщина сложат оружие. Это уже не те мужчина и женщина, которые ложились в одну постель. Эти двое еще больше обнажены, они гораздо ближе к своей сущности. У них нет имен. Женская сущность соединяется с мужской, а всё остальное охотно, по обоюдному желанию, перестает ими восприниматься, перестает для них существовать. Это не проблема. Но стоит встать с постели, начать готовить еду или выйти на прогулку — бабах! Я в обороне. Вот в чем кроется реальная проблема: в ощущении, что нужно обороняться. В ощущении, что я заняла оборонительные позиции. Не представляю, когда это началось. Мне кажется, никакого начала нет. Череда небольших и неочевидных происшествий — а затем защитный механизм вдруг становится частью тебя. Словно обнаруживаешь тайную лестницу в собственном доме. Ступени ведут прямо на чердак, а когда ты открываешь дверь, оттуда выпадает скелет. Сюрприз. Ты думала, скелета давно уже нет. А выходит, он всегда был там, и теперь он внутри тебя — болтает без умолку. Он борется за всё, чего у него никогда не было: деньги, имущество, власть, успех. За всё то, чего ты всегда хотела, что вечно было и навеки останется в руках этих ебаных треклятых мужиков. Что бы ты ни делала, чего бы ни достигла, всё равно ты живешь в мире, где всем владеют, правят и распоряжаются мужчины. Все эти чувства вновь просыпаются в тебе, когда ты залезаешь на чердак. Вот почему не стоит находиться в этом дурацком месте. Там нет ничего, кроме борьбы, борьбы изо всех сил: вот стены, а вот ты восстаешь против стен. Ты можешь толкать их, сколько хочешь, они не сдвинутся ни на йоту. Ты заняла тотально слабую, откровенно глупую позицию. У тебя нет ничего, кроме простроенных линий: ты и мировое зло; маленькая девочка против большого плохого мира. У тебя нет ни одного шанса. Ты будешь разгромлена, ведь ты стоишь и сама просишь об этом. Стоишь в своей слабой позиции, не в силах от нее отказаться, ты скована настолько, что тебе не сделать шаг. Ты просто обязана потерпеть поражение. Очень глупо занимать такую позицию и еще глупее в ней оставаться. Забудь о том, как ты сюда попала, просто выбирайся. Не держись за эту позицию, в которой всё превращается в фигуру речи: мир — подземелье, где кишат смертоносные змеи; мир — это шкаф, полный скелетов, которые неминуемо тебя схватят. Не держись за позицию, в которой мир — черно-белый и в нем есть только хорошие и плохие парни, мы и они, сильные и слабые. Где всё сводится к простой формуле: женщины vs мужчины — следовательно, я vs Родриго. Это гнилые выводы. Настолько гнилые, что источают вонь, меня от них тошнит. Меня тошнит, когда я слышу, как тупо приравнивают одно к другому, и когда сама делаю это. Жесткость приравнивают к силе, а мягкость к слабости. Женщины должны стать жестче, чтобы не быть слабыми. Мужчины — стать мягче, иначе их не будут считать за людей. Я должна обороняться, чтобы Родриго не выводил меня из равновесия. Да пошло оно в пизду! Он никакого отношения не имеет к моему равновесию. Я сама нарушаю свое равновесие. Я такая неустойчивая, это вгоняет меня в тоску. Например, я решила, что отсутствие денег и отсутствие любви — одно и то же. Нищета довела меня до таких эмоций. До дешевых эмоций. Я испытываю голод и чувствую себя ненужной, мне нужна любовь, любовь, любовь, больше любви, чем кто-либо в состоянии дать. Даже Родриго не сможет так любить. Даже десять тысяч Родриго. Я должна различать деньги и любовь. Вот в чем сейчас моя проблема. Я устала не делать различий. Я знаю, когда время работать, а когда — собирать урожай. Я знаю, что прямо сейчас пора учиться зарабатывать деньги. Не нужно усложнять. Работа — это только деньги, и больше ничего. Нужно просто найти работу. Устроиться официанткой, подойдет любая дурацкая должность. Только не становиться жертвой. Что до любви, то я оставила письмо, сделала свой шаг, теперь дело за Родриго. Если он не ответит, я это переживу; узнаю, как принимать последствия несдержанности. Кто знает, может быть, моя большая ошибка, мой сумасшедший взрыв эмоций разрушил нашу связь, но это не разрушит мою жизнь. Я отпущу его, его любовь, наверное, как-нибудь отпущу и дружбу, но я не дам этому ужасному хаосу победить и обесценить всё, что происходило. От одного сильного удара прошлое никуда не денется. Всё, что было между нами, было реально для каждого из нас, было реально для нас обоих. Все эти годы были полны впечатлений, мы работали и постигали новое. Это были годы моего взросления. С Родриго или без него, что бы ни случилось, это время останется со мной. Оно — моя опора. Это то, на чем я стою, и с этим ничего не поделаешь.
Годы их взросления разительно отличались от детства, которое и для Шарлотты, и для Родриго оказалось незапоминающимся. Никаких ярких моментов. Они не знали, что такое идеальное детство наследников привилегированной элиты: безопасное, беспечное начало жизни, когда дом — полная чаша, когда ты окружен благополучием и помещен в культурную среду, благословленную предками, где царят ласка и нега и можно предаваться детским играм. Они не знали и мрака трущоб, в которых жило большинство, где голод, насилие и нищета были обычным делом. Их ничем не примечательное детство прошло в семьях среднего класса, в темных углах, где бесконечно только течение дней, а в обыкновениях, взглядах, интересах сквозят лишь пошлость и ограниченность.
Родриго родился 17 июля 1948 года. Город Берия, пригород Кливленда.
Шарлотта родилась 4 сентября 1946 года. Город Клейтон, пригород Детройта.
У их семей уже были кое-какие средства, когда Шарлотта и Родриго появились на свет. Это был скромный достаток американцев второго поколения, которые продолжали бороться с нищетой и не желали останавливаться на достигнутом. Они лезли из кожи вон, все их мысли вращались вокруг работы и сбережений. Матери в этих семьях не могли позволить себе сидеть дома и не работать. В семьях Родриго и Шарлотты детям уделяли мало внимания. Родриго и Шарлотта были прилично одеты и накормлены, но особенных щедрот жизни не ведали — жизнь не улыбалась им. Предоставленные сами себе, они днями напролет били баклуши. Но верили, что жизнь — если она вообще умеет улыбаться — еще улыбнется им. И улыбнется шире, чем другим. Родриго мечтал, что станет врачом или юристом. Он собирался получить профессию, а не просто работать кем придется. Шарлотта тоже хотела развиваться, мечтала реализовать себя. Она думала, что выйдет замуж за врача или юриста, за милого юношу, такого, как Родриго. Всё было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство: Родриго был евреем.
Когда, едва познакомившись, они стали рассказывать друг другу о детстве, Шарлотта сразу заметила, что у Родриго есть еврейские корни. Она сопоставила обрывки услышанных от него историй, и у нее в голове сложился образ семьи Кортесов. Перед ее мысленным взором предстала целая вереница темноволосых мужчин с горящими черными глазами, и все они были смуглыми красавцами. Длинная процессия из Авраамов, Моисеев и Иаковов шествовала прямиком в Мадрид. Чтобы жениться на испанских красавицах, в чьих темных косах непременно алела роза. Предки Родриго жили в домах из светло-желтой глины в еврейском квартале, который кипел торговлей, а трижды в день, во время молитвы, торжественно затихал. В этот момент Родриго напомнил Шарлотте, что после изгнания евреев в 1492 году в Испании не осталось Кортесов, а жизнь в Берии похожа на ее собственную. Его отца звали Авраам, но старый Абраша был лишь блеклой тенью своих предков. Он называл Родриго только по второму имени — Иаковом. «В остальном детство в Берии мало чем отличалось от твоего», — постоянно твердил Родриго. И больше не желал об этом говорить.
«Но ведь она другая», — в который раз думала Шарлотта. Она мысленно продолжала историю его рода, уже за пределами Испании. Она воображала, как сефарды расселились у испанской границы и кочевали по всей Европе. Где бы они ни оказались, везде они сохраняли свою уникальность. Их выдавали глаза и волосы, они сохраняли свои промыслы и верования. Ни одно место на земле не смогло их изменить, даже город Берия. Ей достаточно было бросить взгляд на Родриго, чтобы убедиться, что картина, созданная ее воображением, совпадает с реальностью. Подперев голову рукой, она наблюдала за тем, как Родриго молниеносно поглощает завтрак. Да, это точно про него. Горящие черные глаза и копна черных как смоль волос. Худое лицо, как у сефарда. Его занятия. Совпадало всё, кроме религии. Однако, размышляла она, в нем есть и религиозность. Его вера существует в иной форме: в форме самоопределения его личности. Его вера из области духовного перешла в область мирского: он верил в свою музыку. Могла ли она сказать об этом?
— А я говорю, что твоя жизнь не такая, как моя, Родриго, — сказала она. — Тебе известны твои корни. Даже если ты не разделяешь традиции предков, ты всё равно принадлежишь своему народу. Ты его плоть и кровь, прими это. Твой народ ведет свою историю до самого конца двадцатого века. Он не прерывался с самого…
— Только не говори, что с самого начала времен, потому что это не так, — отозвался Родриго.
— А всё равно это интересно.
— Почему?
— Прежде всего потому, что между нами есть большая разница.
— Не такая большая, как ты думаешь.
— Откуда ты знаешь, как я думаю?
— Хорошо. Расскажи мне.
— Мне неважно, в чем мы похожи, потому что это очевидно. Иначе мы бы тут не сидели и не завтракали вместе.
— В смысле, мы бы не делали кое-что прошлой ночью.
— Очень смешно.
— А я и не пытался быть смешным. Я хотел сказать что-нибудь сальное и грубое.
— Зачем?
— Мне хочется, чтобы ты рассказала, в чем же разница между нами. А еще мне нравится, когда у тебя глаза на лоб лезут.
— Разница есть. Мы — американцы, но разного типа.
— Что ты пытаешься мне сказать?
— Я говорю, что ты родился и вырос в этой стране, но не в плавильном котле смешения многих культур, как я. Или как мои родители.
— Это национализм? Я, по-твоему, не американец? Ты что, из Дочерей американской революции?
— Нет. Совсем наоборот. Если все члены моей семьи соберутся вместе, что почти невозможно, получится свора собак. Нет. Собачий приют. Мы все полукровки. И приблудыши. В семьях вроде моей большая текучка. Люди приходят и уходят. Cвязи весьма непрочны.
— Ясно. Видимо, ты хочешь сказать, что ощущаешь себя сиротой и не знаешь, где твои корни.
— Вообще-то я говорю о другом. И не могу сказать, что это меня волнует. В каком-то смысле ты тоже сирота и не особенно хорошо знаешь свои корни. Но, с другой стороны, ты совсем не такой.
— С какой стороны?
— Ты связан с другой культурой, другим народом, даже с другой эпохой, и эта связь — непосредственная.
— Может, ты и права, но это ничего не значит. Разве что в моем роду все заключали браки только с иудеями. Но связь с нашей культурой или традицией утеряна. Ее нет.
— Возможно, это не так. Возможно, она живет в тебе. Возможно, это часть тебя… это твои клетки, твои гены.
— Уму непостижимо. Я думал, ты говоришь о моем еврействе. Я что, обязательно должен быть связан со своей культурой или обусловлен генами?
— Ну, одно из двух.
— Знаешь, детка, многие представители генетики или еврейства решили бы, что так говорить очень грубо и оскорбительно. И совершенно неприемлемо в современном мире.
— Я знаю. Но это же всё между нами. Я могу выражаться неточно, потому что еще не разобралась в своих мыслях. Я работаю над новым материалом.
— Про евреев, гены или полукровок?
— Про месье Лепренса.
— Это кто?
— Вот, прочти. Мне пора умываться и причесываться, скоро надо выходить из дома.
Он читает: «Отправляясь в новые места или страны, люди иногда берут с собой вещи других людей, в особенности вещи, которые касались тела другого человека, заряжены его энергией и прочее. Эти вещи оставляют след, наподобие невидимой нити, и такие нити тянутся через пространство. Они соединяют объект с его живым, а в некоторых случаях и умершим хозяином. Люди обрели это знание в древнейшие времена и научились по-разному его использовать. Следы этого знания можно обнаружить в обычаях многих народов. Например, в некоторых нациях сохранилось кровное братство. Два или несколько человек смешивают свою кровь в одной чаше, а затем пьют из нее. После этого они считаются братьями по крови. Но этот обычай коренится гораздо глубже. В его основе лежит магический обряд установления связи между астральными телами. У крови есть специфические свойства. И некоторые народы, например евреи, придавали особое значение магическим свойствам крови. У некоторых народов считается, что если связь между астральными телами установлена, нарушить ее не может даже смерть».
— Шарлотта, — спросил Родриго у двери в ванную, — кто тебе это сказал?
— Месье Лепренс, — сказала она, возвращаясь к завтраку.
— Ясно. Это секрет, или ты всё-таки расскажешь, кто, к чертовой матери, такой этот месье Лепренс?
— Он очень интересный человек. Он живет в подсобке в «Джем спа».
— Ты с ума сошла. Никто не живет в подсобке «Джем спа».
— А он живет там. И я как-нибудь отведу тебя к нему. Не сейчас. Мне нужно бежать.
— А ты уверена, что он не извращенец и не отморозок какой-нибудь?
— Решай сам, хочешь пойти или нет. Я сказала, что как-нибудь свожу тебя туда. До встречи.
Следующее, что он запомнил, — это отсутствие Шарлотты. Шарлотта никогда не любила прощаться, она просто исчезала. Лестничные пролеты наполнились стуком ее каблуков, когда она в своей обычной спешке выбежала из дома. Но Родриго не встревожил ее уход. Он убрал остатки завтрака со стола и погрузился в утренние дела. По утрам он сочинял музыку, а Шарлотта писала статьи; возможно, они еще увидятся сегодня, а возможно и нет.
Им удавалось не превращать регулярные встречи в рутину. Они оба были фанатиками своего дела: абсолютно несгибаемые в рабочих моментах, они становились абсолютно гибкими, когда дело касалось их двоих. Это приносило нужные плоды. За несколько лет между ними установилась добросердечная связь, и страсть не угасала. Время от времени вспышки напряженности нарушали благостную атмосферу. А потом в их отношения возвращалась былая свежесть, и страсть возникала с той же силой, что и в самые первые дни их близости. Всё было вновь как в первый раз: разговоры, секс, всё было настолько ярким, как будто они только что познакомились и только-только открывали всю глубину нежности.
Они плыли по течению, которое то неслось с непостижимой скоростью, то замирало. Нечто такое, что они предпочитали не обсуждать, позволило им обрести близость и оставаться сердечными друзьями, а не только любовниками. «Нам просто повезло, — решили они. — В этом нет ничего особенного». Но кое-что особенное в этом было, и они это знали.
Впервые любовь и дружба в их жизни соединились. Ради этого им не пришлось ничем жертвовать. Компромиссы возникали будто сами собой. По правде говоря, они оставались вместе много лет не только благодаря компромиссам, но и благодаря той атмосфере, в которой Шарлотта и Родриго впервые встретились.
У Дики знакомились многие. Там всегда были люди, одни приходили, другие уже прощались. У него гостили друзья, кто-то заходил на пару часов, а кто-то оставался на пару недель. Были и незнакомцы — и они пользовались гостеприимством наравне с другими. Не только людей было много, еще у Дики всегда было достаточно еды, травы, музыки и гостеприимства, чтобы гости были довольны и приходили снова и снова. Он вырастил небольшой островок каджунской Луизианы посреди стального сурового Нью-Йорка. Он вырастил его и в сердце Шарлотты.
То, что было естественным для Дики, Шарлотте представлялось сущей экзотикой. Каджунский стиль открыл для нее новый мир. Она случайно оказалась в нем однажды ночью. Это была одна из самых жарких ночей в ее жизни. Не в силах заснуть, Шарлотта вышла погулять. Кто-то играл на саксофоне. Звуки растекались по липкой духоте кварталов. Когда звуки прекратились, она остановилась. «Что ты здесь делаешь совсем одна, дитя?» Недолго думая, Шарлотта поднялась в квартиру Дики, где царила настоящая вакханалия: обилие еды, травы, музыки и толпы людей. Для Шарлотты это была ночь посвящения. Она вошла в его дом скромной незнакомкой, а вышла подругой, из тех, что могут зайти в любой час.
Солнце уже вовсю светило, когда она шла домой, думая о произошедшем. Дики рассказал ей, что в графстве, где он родился и вырос, было пятьдесят скрипачей. Это произвело на нее большое впечатление. Куда там Клейтону. Уфф. Вот это мысль. Но нет времени думать. Было уже 9:30, она отклонялась от расписания.
Шарлотта всегда жила по расписанию. Каждые четыре месяца она издавала «Домашний орга́н». Глупое название для газеты, но двенадцать лет назад, когда она начала ей заниматься, звучало иначе. Что-то темное, странное. На нескольких органах в сумраке балконной ложи играет сам Дракула. Дома Ашеров. Органы пульсируют под половицами. Жутковатые пристрастия тринадцатилетней девочки, которая смотрела леденящие душу фильмы и много читала по ночам. Давно забытые попытки прикоснуться к таинственному. Если бы кто-нибудь сейчас спросил ее, она бы ответила, что название газеты связано с образом жизни. «Носишь свой дом на спине. Где бы ты ни был, чувствуешь себя как дома». Это было совсем не то, что она только что испытала у Дики. Нужно узнать его получше. Полностью изучить вопрос каджунов.
Родриго был знаком с Дики уже три года, с тех пор как переехал в Нью-Йорк. Все музыканты знали Дики, не избежал знакомства и Родриго. За три стремительно пролетевших года у него появилась кое-какая репутация. В фортепианной игре Родриго не было равных. Люди смотрели на него с восхищением. Когда он садился за инструмент, то становился его частью. Он бил по клавишам или ласково к ним прикасался, заставляя говорить на языке, который никто прежде не слышал, но в котором всё было понятно. Такова была музыка Родриго, и всё, что оставалось, — это слушать. Он мог пересидеть любого слушателя, и это было единственным, на что жаловался Дики: «Слишком долго». Они говорили об этом, но Родриго никогда не шел на попятную.
— Это твоя сущность, малыш, — часто говорил Дики. — Ты прямой, как стрела. Ни шагу в сторону. Смотрите! Вот он идет. Скорый поезд Родриго.
— В тебе столько дерьма, Дики.
— Ничего, поживем — увидим. Одно из двух: или ты что-то знаешь, или просто упертый как осёл, — говорил он, уже понимая, что и то, и другое — правда.
В двадцать три года Родриго давал уже достаточно концертов, чтобы заработать на жизнь. С ним заговорили о контракте на запись. Он пришел за советом к Дики. Они как раз говорили об этом, когда неожиданно вошла Шарлотта. Контракты — это скучно. Она зайдет как-нибудь в другой раз.
Когда Родриго просил совета по части музыки, он высоко ценил двадцать лет опыта, которые были у Дики: сам Родриго таким опытом похвастаться не мог. По части женщин он уже не был так уверен в компетенции Дики. Не зная, как зовут Шарлотту, Родриго сделал ошибку, спросив: «А кто такая эта рыженькая?» И вляпался по уши.
— Рыженькие бывают разными. Все виды рыженьких хороши по-своему, за исключением разве что этих, с металлическим оттенком, характер у которых мягкий, как тротуар. Есть миниатюрная хорошенькая рыженькая девушка, которая щебечет и чирикает, есть и крупная, статная, под синим ледяным взглядом которой хочется встать по стойке смирно. Есть рыженькая, которая выдает вам тот еще взгляд из-под ресниц, и дивно благоухает, и мерцает, и виснет у вас на руке, но когда вы доводите ее до дома, ее сразу одолевает страшная усталость. Она так беспомощно разводит руками и жалуется на проклятую головную боль, что вам хочется ее стукнуть, но мешает радость, что головная боль обнаружилась, прежде чем вы вложили в страдалицу слишком много времени, денег и надежд. Потому что эта головная боль всегда будет наготове — вечное оружие, такое же смертоносное, как отравленный напиток Лукреции. Есть мягкая, податливая рыженькая алкоголичка, которой всё равно, что на ней надето, лишь бы норка, и куда ее ведут, лишь бы это был ресторан отеля «Риц» и там было много сухого шампанского. Есть маленькая задорная рыженькая девушка — она хороший товарищ, и хочет платить за себя сама, и вся лучится светом и здравым смыслом, и знает борьбу дзюдо. Есть бледная-бледная рыженькая девушка, страдающая малокровием — не смертельным, но неизлечимым. Она очень томная, похожа на тень, голос ее шелестит откуда-то из глубины, ее нельзя и пальцем тронуть — во-первых, потому что вам не хочется, а во-вторых, потому, что она всё время читает то Элиота, то Данте в оригинале. Она обожает музыку, и когда Нью-Йоркский филармонический оркестр играет Хиндемита, может указать, которая из шести виолончелей опоздала на четверть такта. Я слышал, что Тосканини это тоже может. Она и Тосканини, больше никто.
Когда Дики закончил разглагольствовать о рыжеволосых девицах, Шарлотта уже вернулась. Но она не была рыжей. Родриго почувствовал неловкость. Он посмотрел на Дики, и тот покатился со смеху.
— А что такого смешного? — спросила Шарлотта.
— Он думал, что ты рыжая, — сказал Дики.
— О, да ведь это парик. Для маскировки.
— Маскировки? — спросил Родриго.
— Да, — ответила она.
— О. — Он решил, что это выше его понимания. Он хотел познакомиться с ней поближе. И познакомился.
Они оба пришли к заключению, что их детство было ничем не примечательным. Не о чем тут говорить. Они пришли к обоюдному пониманию многих вещей, приняли его и стали жить дальше. У Шарлотты были ее статьи, у Родриго — музыка. Так жизнь стала сносной. Теперь, уже в Нью-Йорке, они продолжали держаться за свое понимание жизни. Ведь затем они и приехали сюда — чтобы открыть новые двери к более масштабным возможностям. Они часто обсуждали друг с другом свои замыслы и надежды. В двадцать три года и двадцать пять лет у них было вдохновение, но никакой конкретики. Достигнут ли они успеха или провалятся — всё зависело от их взросления, от того времени, в котором они сейчас живут.
Даже в самом невзрачном и унылом прошлом можно обнаружить светлые моменты. Возможно, их не так много, но неспешный и доверительный разговор рано или поздно обнажит новые детали.
— Это случилось холодным субботним утром. Я поссорилась с сестрой, уже не помню, из-за чего. В ярости я выбежала из дома и стала топтать цветочную клумбу. Вдруг я что-то заметила в земле. Это был наконечник стрелы. Никогда раньше такого не видела. Он был маленький, со стесанными краями. И очень острый. Я пришла в восторг. До тех пор я не подозревала, что в Клейтоне есть кто-то, кроме нас и наших соседей. Передо мной был знак, что существует что-то еще. Это был поворотный момент. Мне было тринадцать лет.
— Ты не знала, что в штате Мичиган жили индейцы? — спросил Родриго.
— Не совсем так. Знание — это другое. Я нашла предмет. Это реальная вещь, и она стала моей. Я до сих пор ее храню. С тобой случалось что-нибудь подобное?
— Нет. Когда мне было тринадцать лет, самое большее, что могло произойти, — это прогулка до центра города и вечерок в бильярдной.
— Что ж, и это неплохо. Какая разница? Мы всё равно можем быть друзьями.
— Ну спасибо тебе.
— Вообще наконечник стрелы — это своеобразное начало «Домашнего органа». Я принесла его в школу, и один учитель дал мне книгу об индейцах, которые жили в штате Мичиган. Я прочитала ее, а потом написала статью, и после этого решила учредить газету. Я начала постоянно читать книги и составлять конспекты прочитанного. Я научилась печатать и пользоваться школьным мимеографом. Когда я читала, будто целые картины возникали передо мной — битва при Ватерлоо или что-нибудь такое. Думаю, это у многих так. Чувство, будто ты побывал в том месте, о котором прочитал. В общем, я до сих пор храню тот наконечник. И, видит бог, до сих пор издаю «Домашний орган». Мне пора бежать. Еще увидимся.
Следующее, что он запомнил, — это ее отсутствие.
Я отправилась к себе домой, на 14-ю улицу. Эти прогулки уже входили у меня в привычку. Туда и обратно, от 14-й до Канала, от Канала до 14-й, туда и обратно. Не нужно платить за автобус.
По дороге я решила зайти в «Джем спа» и навестить месье Лепренса. Мы давно не виделись. Он пригласил меня выпить кофе и сел в излюбленной позе, скрестив ноги по-турецки, на коврик у кофейного столика. Дрожало пламя разноцветных свечей. Вокруг него было много фруктов, сладостей и вина, на стенах были развешаны колбаски, а свисавшие с потолка связки жгучего красного перца переплелись с букетиками розмарина и мяты, образовав ароматный балдахин. Это действительно была подсобка. Я смотрела, как он разливает кофе из поцарапанного старого термоса. Внезапно я почувствовала доверие к этому человеку, как будто годы житейского опыта потеряли всякое значение. Я всегда это чувствовала рядом с ним.
— А ты чуть-чуть осунулась, Круглолицая, —
сказал он.
— Просто устала, — ответила я. — Много работы.
— Не в этом дело. Вот, выпей кофе, может, это тебе поможет.
Одной рукой он протянул мне чашку с кофе. Другой рукой — зеркало. Мне не хотелось ни пить кофе, ни смотреть на свое отражение. Я знала, что у меня под глазами круги, и только что завтракала с Родриго. Но я уже привыкла к странностям месье Лепренса и потому сделала глоток и заглянула в зеркало.
Я увидела женщину постарше, сидящую за письменным столом. Ее волосы были элегантно уложены и украшены лентами и жемчугом. Она встала, медленно прошлась по комнате, заложив руки за спину. Подошла к книжному шкафу со стеклянными дверцами. Потом к камину. Потом к окну. В задумчивости потерла лоб двумя пальцами, а затем снова села за стол и продолжила писать. Раздался звон церковного колокола. На ее пальце было кольцо из Испании.
Я села за письменный стол и вновь услышала, как звонят колокола. Это был момент истины. Я не хотела принимать решение. Мой взгляд упал на кольцо на моем пальце. Кольцо Филиппа. Пусть катится ко всем чертям. К черту моего зятя. К черту его благородные и невыносимые амбиции. Сейчас начнется новая война, много моих людей погибнет. В сознании отчетливо возник образ моей сестры. Мария, моя старшая сестра. Мария, королева Шотландии. Моя погибшая сестра. Смерть была повсюду, и так было всегда. Короткое перемирие — и снова война, борьба и смерть, как будто ничего другого и не было.
Я позвонила в колокольчик и отправила стражника за лордом Лестером.
Его явно только что разбудили, его лицо выглядело усталым и помятым.
— Утром нужно собрать Совет, а сейчас нам нужно всё обсудить. Мне нужно всё обсудить с тобой, Лестер. Ты любил меня и верно мне служил, но сейчас я — просто Элизабет, а ты Роберт. Поговори со мной.
— Я любил тебя и верно тебе служил, Элизабет. Я и сейчас тебя люблю, и всегда буду любить. Что тебя гнетет, что не дает покоя? Испания? — спросил он.
— Да. Испания. И Англия. Сейчас 1588 год, и снова идет война. Чертов Филипп. Завтра Совет будет обсуждать лишь это: Испания и Англия. Останься, поговори со мной, Роберт. До рассвета у нас есть немного времени, прежде чем Ее Величество, черт подери, приступит к своим зверским и кровавым делам.