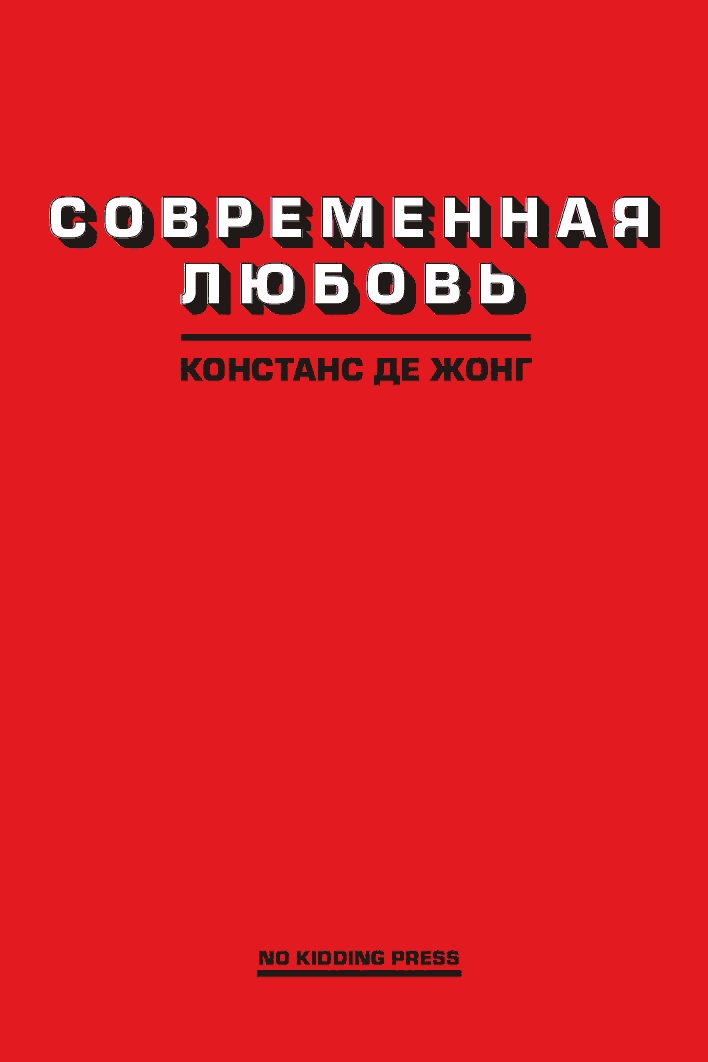Предисловие:
«Дистопия» в сотрудничестве с издательством No Kidding Press публикует «Современную любовь» в переводе Саши Мороз. Книгу о том Нью-Йорке, о котором поёт St.Vinsent, в котором, задыхаясь, умирала Валери Соланс, в котором появился и бесследно исчез Энди Уорхолл. Книги, написанной так хорошо, что это вызывает большую зависть.
Роман Констанс ДеЖонг «Современная любовь» — постмодернистская классика, образец новаторской прозы своего времени. Это детективная история и научная фантастика. Это история изгнания евреев-сефардов из Испании. Это любовная история, рассказанная из сердца нижнего Ист-Сайда. Это история Шарлотты, Родриго и Фифи Корде. Это форма, разъедающая время, голос и жанр, тщательно сконструированная и одновременно личная.
ДеЖонг, важная фигура нью-йоркской медиа-арт-сцены 70–80-х годов, отправляла «Современную любовь» частями по почте, издала ее в форме книги и превратила в часовую радиопьесу, музыку для которой написал Филип Гласс.
Содержание:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Повсюду я вижу лузеров. Таких же неудачников, как я, которые не могут достичь успеха. В Лондоне, Нью-Йорке, Марокко, Риме, Индии, Париже, Германии. Мне стали встречаться одни и те же люди. Я думаю, мне стали встречаться одни и те же люди. Я бреду, не разбирая дороги, пялюсь на незнакомцев и думаю: я откуда-то знаю вас, не припомню откуда. Улицы вечно людные и узкие, они полны мужчин. Всегда ночь, и все незнакомцы — мужчины.
Я слышу, как говорит новый мир. Повсюду его эко-палео-психо-электро-космический говор. Разумеется, разговор ведут мужчины, решая проблемы и всё объясняя. Я не понимаю, что всё это значит, мои уши болят, а глаза лезут из орбит, я не вижу в этих уличных болтунах творцов нового мира. В любом случае они не реальные лузеры. А новый мир — это старый сон.
Они говорили: «Подожди, вот будет тебе двадцать семь, и ты пожалеешь». Мне двадцать семь. Я ни о чем не жалею.
Кто такие «они»? Нет ответа.
А новый мир? Я слышала его приметы; не видела его следов; смотрела дальше:
я видела людей в Индии, у них не было рук, не было ног, не было одежды, не было еды, не было денег, не было жилья, не было ничего, кроме других людей, людей, людей. Реальные лузеры. Я говорила с очень серьезными людьми в Европе, они были моими ровесниками и не были ими, потому что смотрели на себя со стороны. Они были более оторванными от жизни, но такими же реальными лузерами. Они видели: совпадения между далеким настоящим и ближайшим прошлым; себя самих. Я видела, как бугимен истории выходит из-за угла и впопыхах ищет место, чтобы с шумом упасть на землю. Это меня испугало, вот почему я суетливо бегала кругами по Парижу, Риму, Германии и много шумела. Вела себя бесцеремонно. Критиковала всех подряд, выдумывала истории, на бешеной скорости.
«Весь мир вертится и я бегу по кругу ха ха я блондинка ах как кружится голова тараторю солнцу оно садится за Сомневальной аркой…» Болтовня без остановки. Бег без умолку. Сегодня здесь, а завтра — не оставив никаких следов моей непопулярной, нескладной картины мира. Хорошая девочка.
«Я что, всегда буду одинока?» — думаю я.
Нет, неудачники, которых я встречаю повсюду, — это еще не реальные лузеры. Они все имеют счета в банке: могут позволить себе быть лузерами. Я на мели. По какому курсу можно обменять мои ценные сведения? Буду метать бисер на тротуар, на страницу. Буду слабой и сентиментальной: «Новый мир — это старый сон, а я устала от снов. Поднимись ко мне». Я шепчу на ухо незнакомцам.
Семь лет я прожила во снах…
Я думаю, мне нужно прошлое. Я слишком много думаю. Известная болезнь. Я даю клятву: сдерживаться, быть внимательнее, использовать поменьше французских и/или модных слов. Я должна следить за собой. Семь лет я видела сны. Я проживаю две, три, четыре многогранные жизни; эти людные узкие переулки захватывают меня. Я должна беречь себя, небезопасно женщине бывать одной на улицах. Пора уходить отсюда. Я позову кого-нибудь к себе. «Эй, детка, поехали ко мне, покажу тебе мои лучшие рецепты. У тебя много наличных?» Наконец-то можно ничего не стыдиться. Сейчас 1975 год, можно говорить и делать всё, что хочется. Я хочу в этом убедиться. То есть говорить и делать всё, что я хочу. «Эй, детка».
Я хочу, чтобы этот парень входил в мои планы. Я думаю: «Может, он убийца или коп». Я это выясню:
— Как пишется слово «Они», с большой или с маленькой буквы? — спрашиваю я.
Он усмехается:
— Всё слово большими буквами, дорогуша.
Уф. Он понял, что я имею в виду. Он не один из них. Два неудачника. Как я и хотела. Я называю его Родриго, это мое любимое романтическое имя. Все незнакомцы — это мужчины с романтическими именами. И романтическим прошлым.
Мы с ним в моей комнате. Кажется, мне нужно в чем-то убедиться, но не знаю, в чем именно. Я должна решиться: две клетки слились, и вот двадцать семь лет спустя я здесь, в моей комнате — сижу на моем персидском ковре. С Родриго. Теперь у меня есть прошлое. Теперь Родриго увидит меня такой, как я хочу. Я хочу, чтобы Родриго нашел меня сногсшибательной. Я хочу быть как разбитое стекло на тротуаре; как бриллианты на черном бархате; как блестящая россыпь на земле. Значит, я хочу контролировать людей. Это никуда не годится. Лучше выберу быть осторожной.
Посмотри на меня. Увидь меня. Сзади, сбоку, сверху, снизу, в любом положении я — одно и то же. Смотри: я повсюду; я неотличима от ковра я мебель пол потолок стены книжные полки. Смотри, как все эти вещи сочетаются друг с другом. Всё, от ритуальных предметов до простого стула, расставлено безупречно, как в викторианской усыпальнице. Здесь нет места случайности или случаю. Это никуда не годится.
Мне встречалось слишком много художников. Я не могу прожить жизнь, наблюдая, как организованы цвета, как построены пропорции и композиция. Я не живописец.
На мне красный свитер. В руках — синяя кружка. Я сижу на персидском ковре. Здесь мой дом. Эта комната существует отдельно от всего мира, и она же — целая Вселенная. Здесь может произойти что угодно, у меня есть всё, что нужно: я живу здесь.
— Я вижу тебя насквозь, детка. Я мог бы вести твой дневник, — говорит Родриго.
Я чувствую себя разбитой. Я не хочу быть как разбитое стекло. Я не хочу быть метафорой.
Мы в моей комнате. Я могу делать всё что хочу. Я хочу Родриго. Я хочу, чтобы он сделал со мной всё. Я хочу, чтобы ему было легко со мной, с тем, что принадлежит мне, с моим пылким желанием. Я должна показать себя и свой дом с изнанки, чтобы он мог проникнуть в глубокие, темные, сокрытые, тайные, таинственные, сказочные, волшебные смыслы моей жизни. И он исчезнет. Вместе со мной.
«Возьми эту кружку: это волшебный сосуд, который переносит легенды из уст в уста. Поднеси его к уху и слушай сладостный шелест, с каким раскрываются тайны Вселенной. Слушай приятные голоса ангелов, которые прошли сквозь века, слушай раскаты грома. Посиди на этом ковре: он передавался из поколения в поколение. В каждом пятнышке, в каждой потертости — история жизни. Садись вот здесь, где леди Мирабель выронила бокал вина, в исступлении падая прямо в объятия месье Лепренса. Видишь этот свитер: мой любимый. Я купила его у старухи на блошином рынке в Париже, она продавала цыганские шарфы и пушистые свитера. Это священный красный. Насыщенный темно-красный — это цвет крови, которая струится по моим венам».
Две клетки сливаются, и двадцать семь лет спустя я иду домой с Родриго. Я хочу, чтобы он чувствовал себя как дома. Я сделаю кофе.
— Я сделаю кофе. Чувствуй себя как дома.
— Окей.
Родриго прислоняется к стене. Его пальцы неустанно двигаются. Вокруг его головы — цветные огоньки. Он прикасается не касаясь, я оборачиваюсь не оборачиваясь, мы говорим друг другу «да» без слов, потом дико и безудержно трахаемся. У меня нет визуальных образов, чтобы передать это. Родриго делает со мной всё. Он трогает меня везде. Мы делаем всё: сзади, сбоку, сверху, снизу. Я кончаю во всех положениях. Мне хорошо как никогда — он говорит, что ему тоже.
— Мне пора, — говорит Родриго. — Может, еще увидимся.
Это современная любовь: короткая, страстная и нежная.
Я хочу рассказать вам историю моей жизни. Это очень интересная история. Однажды в полночь мое одиночество в Ла Сохо нарушил незнакомец, который постучался ко мне в дверь. Его имя — месье Лепренс. И целых семь лет я
«Не нужно ничего рассказывать. Я вижу тебя насквозь, я мог бы вести твой дневник. Как будто знаю тебя всю жизнь. Молчи. Иди ко мне», — шепчет Родриго.
Он прикасается не касаясь, я оборачиваюсь не оборачиваясь, мы говорим друг другу «да» без слов, мы валим друг друга на кровать, мы растворяемся, исчезая глубоко глубоко глубоко в темном волшебном таинственном тоннеле любви. У меня нет визуальных образов, чтобы передать это. Он прикасается, я оборачиваюсь, потом мы трахаемся. Он прикасается, я оборачиваюсь, потом мы трахаемся. Он прикасается, я оборачиваюсь потом мы трахаемся. Он прикасается, я оборачиваюсь потом мы трахаемся. Он прикасается я оборачиваюсь потом мы трахаемся.
Люди говорили мне: если не бросишь писать, может быть, сделаешь себе имя. Они были правы: мое имя — Констанс ДеЖонг. Мое имя — Фифи Корде. Мое имя — леди Мирабель, месье Лепренс и Родриго. Родриго — мое любимое имя. Сперва я носила имя отца, потом имя мужа, а после — имя второго мужа. Я не знаю, не хочу знать, почему всё так. Они говорили: «Вот будет тебе тридцать, и ты увидишь». Когда мне было тридцать, я стояла у Ворот Индии. Я ничего не видела. Мне всё еще тридцать. Я хочу рассказать вам историю моей жизни.
Сперва меня звали Джон Генри. До рождения я была мальчиком: мой отец, как это свойственно отцам, ждал именно мальчика. Потом я стала запасным вариантом, очень романтичное прозвище. Потом я взяла имя мужа, теперь — имя другого мужа. Я продолжаю писать. Конечно, ничего не изменилось. Я продолжаю встречать одних и тех же людей повсюду. Я затихаю и распаляюсь снова, я сгораю от желаний, свойственных моему возрасту. Повсюду — язычки пламени. То замирают, то разгораются снова. Я перестаю сдерживать себя и нарушаю клятвы, перестаю притворяться, что существует внутреннее и внешнее. Пепел кружится у моих ног, когда я на цыпочках выхожу за дверь. Дверь, мои двери распахнуты навстречу свету. Они ведут к самому сердцу, к самой сути. Это чувственная ассоциация.
Однажды ночью я бродила по Сохо. На улицах было очень людно: должно быть, была суббота. По улицам по двое и по трое гуляли люди, они болтали, заходили в бары. Я рассматривала книги в витринах и думала о своем. Люди кричали друг другу: «Эй, Генри!» — «Привет, Пабло, как дела?» — «Эй, это же Гийом и Мари». — «Как дела, Гертруда? Идешь на вечеринку к Руссо?» — «Видел Эрика? Что с ним? Я слышал, он уехал из города». Темные потоки метались по улице. Мерцающие цветные огни, крупные тени в туманном гуле голосов скользили мимо. Слегка задевали меня. Я чувствовала, как к спине прилипает шерстяной свитер, как по венам бежит кровь; моя голова отяжелела, и сознание наполнили причудливые узоры: круги в квадратах, запутанные структуры, параллелограммы, чашки кофе, предметы мебели, части тела, списки, обрывки фраз… Я увидела Родриго, он быстро исчез за углом. Он ищет немного кокса и сочувствия; его имя — Мик Джаггер. Не меня ты ищешь, детка. Он думает, современная любовь не стоит того, чтобы предаваться ей снова. Думаю, я видела Родриго. Должно быть, мне привиделось. Впрочем, его никогда особенно не волновали мои сраные видения.
Однажды в полночь мое одиночество внезапно нарушил незнакомец…
Тук. Тук. Тук.
— Леди Мирабель?
— Разумеется, — ответила я.
— Надеюсь, я не потревожил вас. Я проходил мимо и заметил, что в вашем окне горит свет, и подумал
Поначалу мне было сложно найти ему место. Он был с востока. Татарин, а может быть, перс. Мы говорили по-французски. Он объяснил, что увидел свет, проходя мимо моего окна. Единственный луч света на мрачной Рю Ферма. До его дома на Рю дю Драгон был неблизкий путь, и он решил зайти на минутку и, если будет уместно, выпить вина, чтобы освежиться перед долгой дорогой. Моя горничная только что принесла вечернее бордо, и я с легкостью угодила незнакомцу, не побеспокоив дремлющих домочадцев. Не успела я опомниться, как совершенно очаровала месье Лепренса. Мои юбки тихо зашелестели, когда мы упали — случайно встретившись, но полюбив, будто по воле рока, — в объятия друг друга.
Часто, гуляя по саду, сидя у окна или занимаясь нескончаемым домашним трудом: моя вышивка, мои письма, мой салон, мои счета, мои друзья, — я вздрагивала, вспоминая об этом любовном эпизоде в моей жизни. Эти воспоминания захватывают меня. Я чувствую его прикосновение. Я оборачиваюсь. Потом я падаю, исчезаю в темном переулке. Я знаю этот переулок, знаю, куда он ведет. И всё же я не могу сдерживаться. Мой ежедневный труд, простые дела, благонравные поступки, все мои повседневные занятия — всё рассыпается в прах. Мои жемчуга — это мыльные пузыри, они летят над крышей, к морю. Я смотрю, как они исчезают за горизонтом, и отпускаю их. Только дети гонятся за такими ускользающими видениями. Но меня не проведешь. Я знаю, что это прозрачная метафора. Я смотрю сквозь нее, вижу бриллиант, сверкающий в ночи. Бриллианты навсегда. Я всегда могу на них положиться, когда то, что я вижу, слышу, чего касаюсь, ослепляет, оглушает меня, лишает чувств. Когда я чувствую его роковое прикосновение, я отпускаю себя.
Я возвращаюсь. Я слышу, как ладонь ложится мне на сердце, я слышу стук в дверь. Мне не нужно постоянно очищать, полировать и охранять мое сокровище, мое воспоминание. Мое чувство не подвержено порче и старению, оно вечно. Месье Лепренс — внутри меня. Навсегда. Есть место, где чувства остаются неизменными. Комната. Вечная ассоциация. Целые дни рассыпаются в прах, когда появляется месье Лепренс: а потом мой любовник-фаворит становится одним мгновением, мгновением-мифом. Одно мгновение может стать событием. Мгновение может стать роковым событием. Мгновения достаточно. Я не шучу: больше ничего не нужно. Мое сердце на миг озарилось светом. Всё пылало. Блистательная усыпальница. Звезда. Это всё еще сердце. Сейчас 1975 год, и я не жалею, что умерла за любовь.
Прошли годы, и иногда я всё так же вздрагиваю. Я говорю модные слова, чтобы окутать ими мои живые чувства. Я окутываю себя постоянным стремлением к именам, чтобы называть чувства, как будто это предметы. Образ месье Лепренса символизирует любовь, истину, мудрость, честность и прочее. Память о нем, воспоминания возникают рефлекторно, молниеносно. От этого я вздрагиваю. Спешно перебираю свои вывернутые наизнанку представления о любви и смерти и… «Даже сейчас, в наши дни, в наше время», — говорю я себе. Даже в это время озарений? Я говорю: да, даже здесь остается место для истории любви. Я не нуждаюсь, не хочу нуждаться в идеальной, священной трактовке происходящего. Я всегда иду туда, куда ведут меня эти короткие переулки. Радужные пузыри кружатся в небесах. Я сказала месье Лепренсу: слова — это лишь птицы, которые переносят чувства. Что до меня, то мне не нужно ничего: бриллианты сверкают всегда. На них можно положиться. Это чистая правда: я с радостью устремляюсь вниз, когда открывается дверь люка. Я падаю, раз, ещё раз, бесчисленное множество раз. Это всегда интересно. Этого достаточно. Нет. Мне не жаль, что однажды я умерла за любовь. Теперь мне дан второй шанс, и он обещает больше.
Итак, вот моя история. Я в моей комнате. Долгий срок, который я отбыла здесь, не описать в этой долгой фразе: я сижу, я стою, я слоняюсь от стены к стене, легко переступая с половицы на половицу, изнуряя себя до такой степени, что от меня остается лишь тень, уподобляясь вспышкам света на потолке, на стенах, стараясь слиться с фоном, пытаясь стать безымянной и безликой, надеясь, что останусь навсегда в этой тотальной свободе неопределенности, я — заключенная, я беспробудно сплю. Так проходит семь лет. Долгое наказание. Я запомнила его как время, проведенное в камере одиночного истончения. Я свободна говорить всё, что хочу. Я говорю Родриго: я хочу быть стражем у врат нерешительности. Хочу знать, почему всё так, причину всех вещей. Я подозреваю, он не понимает, к чему я клоню. У него нет времени. Нет времени на долгие, замысловатые разъяснения. Он вздрагивает всем телом, когда я говорю. Похоже, он только и думает, что о сексе. Я считаю его сногсшибательным, я хочу думать о нем как о человеке, лишенном недостатков, я готова встать перед ним на колени. Думаю, меня утомляют мужчины. Я ему покажу. Я тебя помещу в картину, залитую лунным светом. Вот твое место. Ты навечно заключен в рамку романтичной сцены. И я скажу даже больше.
В комнате — два незнакомца. Три незнакомца в комнате. Во сне, который длился семь лет, меня уже две, четыре, шесть; я многократно умножаюсь. Комната наполнена людьми. Я мечусь по комнате, пытаясь понять, почему всё так, стараясь стать причиной всех вещей. Я не верю в числа. Я гонюсь за общим результатом, желая выяснить, как всё складывается в целое. В комнате есть сущности. Неуловимые. Тем не менее они есть. Они столь же реальны, как и числа. Они — мои гости: станционные смотрители, генералы, писатели, художники, бесчисленные военные, редакторы, няньки, потерянные дети, разнообразные животные, долгая вереница живых и мертвых. Вообще-то я не ищу их. Они сами приходят ко мне, как посетители, у которых есть своего рода привилегии. Они приходят, я принимаю их. Когда они сидят, я стою. Когда я говорю, они слушают. Когда они встают, я оборачиваюсь. Когда я смотрю, они пристально смотрят в ответ. А когда с меня всего этого довольно, я выдумываю причину, чтобы гости ушли, я говорю им: «Мое имя — Этуаль, я из Франции, я живу здесь, в Эйфелевой башне, я пуп земли, ха ха я звезда, мир вертится вокруг меня». А когда они уходят, я думаю, неужели я всегда буду одна.
Я думаю: «Может, я слишком много читаю».
Однажды я восклицаю: «Меня окружают дураки и дурацкие идеи! Я хочу лучшего мира!» Я сама создам лучший образ всего. Вот моя идея: я положу Землю на спину гигантскому слону, чтобы он держал ее в пространстве. Слон стоит на черепахе, которая, в свой черед, плывет по морю, заключенному в чашу.
Таков был общий результат одного дня.
На следующий день я сижу с книгой о мифологии Индии. Я читаю: «В индийской мифологии Земля находится на спине гигантского слона, который держит ее в воздухе. Слон стоит на черепахе, которая, в свою очередь, плывет по морю, заключенному в чашу». Это меня огорчило.
Я не люблю, когда придуманное мной написано кем-то другим; я чувствую себя глупо.
На следующий день я сижу, стою, слоняюсь, вздыхаю, стенаю, жалею себя, говорю сама с собой:
«Мир придет ко мне, или я приду к нему?» — сказала она.
«Вам нужно решиться», — сказала она.
Легко ступая, я подхожу к книжному шкафу. Я беру книгу наугад. Я читаю: «Я наблюдаю за ней, — сказал он, — с необъяснимым восторгом, за ее жизнью в башне, оснащенной телефонами, телеграфами, фонографами, беспроводными сетями, передвижными экранами, проекторами, видеомониторами, словарями, расписаниями и свежими новостями. У нее есть всё, что нужно. Она носит египетское кольцо, которое сверкает, когда она говорит. Такой хорошо снаряженной женщине незачем путешествовать. Двадцатый век перевернул историю о Магомете и горе; в наши дни гора приходит к современному Магомету».
Мне жутко не понравилась эта характеристика.
Я прочла ее; никаких глубоких чувств у меня не возникло; сон закончился.
Другими словами, я прозрела.
Той ночью я села за стол и написала: (1) РАЗНОРОДНОЕ НЕ УНИВЕРСАЛЬНО. (2) НЕ ВСЕ СОВПАДЕНИЯ ИНТЕРЕСНЫ. В этих двух предложениях — все мои ежедневные уроки жизни: все семь лет уместились в эти слова. Лучше бы мне как следует осмыслить всё это. Меня беспокоят мои записки: они непонятные, слишком запутанные и/или слишком личные. Я прикрепила их на дверь холодильника и вышла на прогулку.
Должно быть, была суббота. Все вышли на улицы. Я случайно натолкнулась на Хорхе Луиса Борхеса. Вероятное совпадение…
Я случайно натолкнулась на Боба Дилана.
Я случайно натолкнулась на Хорхе Луиса Борхеса и спросила разрешения процитировать его в моей книге.
— Окей, Хорхе? Я хочу использовать фрагмент о человеке, который лишен свободы. Ну, вы понимаете, о современном сновидце. Я пишу тюремный роман. Мне только нужно сделать пару отступлений от вашего оригинального текста. Немного дополню в двух местах. Ну, что скажете? Окей?
— Окей, дорогуша. Я часто говорил: «Любое содружество — тайна». Но запомни: всегда пиши о том, что знаешь.
— Окей.
Я напишу о прошлом. В прошлом всё расставлено безупречно. Все предметы равной величины: люди, книги, события, стулья, числа, я, любовь, Нью-Йорк — всё одинаковой величины. Всё взаимозаменяемо. Немного того, немного другого; всё случайно, взаимосвязано. Это так просто, всё сочетается со всем: события — это вещи; люди — вещи; предметы имеют цвет и пропорции, образуют композиции; они просто вещи, которые следуют из других вещей / ведут к другим вещам. Всё это очень мило. Я терпеть не могу этот сон. Этот современный сон, любовь к усложненности. Я уже видела этот сон. А он видел меня. Во сне я становлюсь привычной частью многолюдного, безвоздушного пространства. Я неотличима от ковра, мебели пола потолка и прочего. Мое сознание наполнила замысловатая чепуха, из-за которой все совпадения стали такими интересными. Я вспоминаю:
«Этот ковер весь в пятнах и потертостях. Если я соединю отдельные пятна, то смогу прочертить карту поколений, которые на протяжении всей жизни ходили по этому персидскому ландшафту. Я смогу передать через образ, как течет жизнь. Я назову его „Форма времени“. Мое озарение сделает меня знаменитой». Мои видения образы идеи, мои клятвы, мои пылкие желания, мои размышления, мой род занятий: я спала крепким сном.
— Эй, детка, я хочу открыть тебе секрет.
— Отлично.
— Видишь эту кружку? Я хочу, чтобы она была твоей.
— Она имеет хоть какую-нибудь ценность?
— Ты только о деньгах и думаешь!
— Это правда.
— Ты знаешь, что деньги — это далеко не всё? Ты знаменит, вот что имеет значение.
— Да, это так.
— Ты что, не можешь просто восхититься моей любимой кружкой? Я хочу, чтобы она была твоей, потому что она мне очень дорога.
— Неужели.
— Потому что ты мне дорог. Ты мой настоящий друг. Ты знаешь, что это значит? Знаешь, как трудно отыскать в мире верного, преданного друга?
— Конечно знаю. Это не секрет.
— Неужели.
— Мне пора. Я не знаю: «Может ли юная девушка найти настоящее счастье, полагаясь только на меня и на предметы?»
Когда он оставляет меня, я придумываю причины жить дальше. Я помню, что люди всегда говорили мне: пиши о том, что знаешь. Я знаю много художников. Меня окружают люди, которые занимаются искусством; такие же неудачники, как я. В это я не верю. Я верю, что в искусстве что-то есть. И я даже знаю что. Искусство — это…
«Нет, нет, нет!» — кричат редакторы. «СЕКС. РЕВОЛЮЦИЯ. НАСИЛИЕ. Большие темы. Все слова большими буквами, дорогуша. Мы не сможем сделать деньги на искусстве, твоих друзьях, твоих убогих озарениях. Послушай, ангелок, ты же хочешь сделать себе имя?»
«Да, — шепчу я. — Я хочу кучу денег. Но что нужно делать бедной девочке?»
«Поднимись к нам, — сказали они. — Ты узнаешь».
Общество кричит: «Нет! Мы хотим Образования, Еды, Жилья. Мы хотим наши права!»
Люди кричат: «Не продавай себя Мужчине, не будь предательницей».
Да, да. Вы правы, ваши права, я заикаюсь, я спотыкаюсь, мне нужно бежать бежать бежать, нужно работать, чтобы не оказаться на улице. Угрозы обвинения оскорбления сыплются как град; в голове всё плывет; улицы заполняются водоворотами крови и грязной воды, в которых кружатся обломки мебели и части тел. Темно, кругом полно людей, я мчусь что есть сил, на волосок от смерти.
Боже, получилось. Я в безопасности, в моей комнате. (1) Вселенная — это слово из мифологии: я где-то это прочла. (2) Вселенная — это огромный мыльный пузырь, который зарождается в склянке и заканчивает свой путь в раю для пузырей. В Новой Шотландии есть люди, которые отправляют детей не в колледж, а на Остров пузырей. Ну и пусть; возможно, им будет дан второй шанс, и он обещает больше. А может, и нет. Я им не мать. Что до меня, то я самодостаточна. То есть я укрылась в спокойном уголке. Я мерю шагами зону безопасности. Изнуряя себя до такой степени, что от меня остается лишь тень. Держусь за мою драгоценную целостность и беспокоюсь: не могу же я прожить жизнь, полагаясь только на людей искусства. Мне нужно больше увидеть в мире, войти в контакт с более сильной энергией. Смогу ли я воспользоваться этой головокружительной возможностью? Смогу ли я позволить себе билет в Индию?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Солнце садилось за холмами, город пылал в закатных лучах, а небо наполнялось светом. Индия в замедленном времени, несезон в самом разгаре. Неспешный караван дней тянул за собой ночи, что растворялись при наступлении следующего дня, который так же плавно растворялся, как тень на воде на пустынной земле на горах на равнинах. Безоблачное небо наполнялось светом, с моря дул прохладный бриз. Было раннее утро. К счастью, день ожидался не слишком жаркий. Но вездесущая мелкая пыль была неотступной. В свете луны сад стал очень красивым. Тихие, неподвижные деревья отбрасывали на лужайку длинные, густые тени, терявшиеся где-то меж застывших кустов. Птицы устроились на ночлег в темной листве. На дороге почти никого. Изредка вдалеке слышалась песня. А в остальном сад был тих, полон шорохов, и деревья обрамляли подернутое дымкой серебристое небо. Дождь шел всю ночь и почти всё утро, и солнце садилось в тяжелых, темных тучах. Небо было бесцветным. Лягушки квакали всю ночь, настойчиво и ритмично; но с рассветом утихли. Утро было серым. Солнце показалось из-за леса, полное жгучего блеска, но вскоре скрылось за облаками. Весь день солнце и пасмурное небо боролись друг с другом. Облака проходили сквозь широкое ущелье; скапливались у холмов. Тучи по-прежнему чернели над долиной и грозили разразиться дождем к вечеру. Ночь была спокойной и тихой. Ранним утром безмятежное море плескалось о белый берег. Древняя синева моря сияла. Вдалеке дым парохода почти отвесно поднимался в небеса. До восхода солнца оставалась еще пара часов. На небе не было ни облачка. В деревне все еще спали. Небо окаймляли темные очертания холмов. Ночь была совершенно спокойной. Луна еще только выходила из моря среди облаков. Синие воды были неподвижны. Орион был еле виден на светлом, серебристом небосводе. Белые волны плескались о берег. Огромная луна восходила над грядой облаков. Пошел дождь. Лило как из ведра, дороги затопило, а пруд, заросший кувшинками, вышел из берегов. Деревья гнулись под тяжестью ливня. Птицы вымокли и не могли лететь. Внезапно лягушки стихли. Тем вечером всё было особенно красивым: солнце садилось за темным городом, за одиноким минаретом, который будто направлял весь город вверх, к небесам. Облака были красные с золотым, озаренные солнцем, завершившим свой путь над прекрасной печальной землей. А когда сияние погасло, на небо вышел молодой месяц. Нежный молодой месяц взошел над темным городом. Солнце уже касалось верхушек деревьев, и они вспыхивали мягким светом. Они обрамляли собой небеса. Лепестки одинокой розы отяжелели от росы.
Небеса были омыты дождями; дымка рассеялась, оставив после себя ясное ярко-голубое небо. Густые тени имели четкие очертания, а высоко на холме отвесно поднимался столб дыма. Всё еще было рано, и легкий туман покрывал кусты и цветы. Солнце еще только вставало за неподвижными деревьями. Щебетавшие птицы уже разлетелись по дневным делам. Было довольно рано. Южный Крест, ясный и красивый, был виден над пальмами. Земля вокруг каждого ствола была покрыта обильной росой. В домах еще не зажегся свет. И звезды были очень хорошо видны. Но восток неба был озарен пробуждением дня. Несколько дней шел дождь. Темные тучи возлежали на холмах и горах. В отдалении сгущался плотный туман, укрывая собой землю. Повсюду были лужи, и всё вокруг было мокрым насквозь. Стоял чудесный день, солнце только поднялось над макушками деревьев, и было пока не слишком жарко. Бледно-голубое море было спокойным. Белые волны медленно накатывали на берег. На небе ни облачка. А убывающая луна была в зените. Когда солнце поднялось выше, на равнины легли длинные тени. Был красивый день, ясный и не слишком теплый. Только что прошел дождь. Теплый, моросящий, долгоиграющий дождик. Небо было ярко-голубое; горизонт наполнили гигантские облака. Рано утром, прежде чем солнце выйдет из-за моря, пока земля покрыта обильной росой, а на небе видны звезды, здесь очень красиво. Всё затихает на фоне рокота моря. Утренняя звезда гаснет. Горизонт моря вспыхивает золотым светом. Тень медленно ложится на землю. На море штиль. Море покоилось, пока с северо-востока не пришел ветер. Песок отбелили солнце и соль. Сильно пахло озоном и водорослями. На пляже не было ни души. В восточной части неба краски были ярче, чем следы заходящего солнца. В облаках сверкали молнии, резкие, ослепительно яркие, как бриллианты. Там были другие причудливые формы. И все цвета, какие только можно представить. К западу — насыщенный оранжевый цвет. Несколько дней шел дождь. Была ясная звездная ночь. На небе ни облачка. Убывающая луна светила над высокими неподвижными пальмами. Орион был хорошо виден в западной части небосвода, а Южный Крест — над холмами. Ни в одном доме не горел свет, на узкой дороге было темно и пустынно. На море был штиль. Через час или два, должно быть, из-за холмов выйдет солнце, а луна на ущербе зайдет в пучину вод. А пока — ни шороха в кустах, всё неподвижно. Птицы молчали. Был чудесный прохладный вечер после жаркого, солнечного дня. С моря доносился бриз, а пальмы, качаясь, обрамляли небо. Солнце садилось. День медленно, неспешно погружался в черную индийскую ночь. На пляже стояла женщина. Она ехала в поезде, поднималась из долины, сидела на холме. Женщина путешествовала по Индии одна. Она ела мороженое, потому что был ее день рождения. Темно-синяя вода была полна отражений. На мгновение она задалась вопросом, что бы подумал человек тридцати лет? Был чудесный прохладный вечер в Бомбее после жаркого, солнечного дня. Садилось солнце. С моря доносился бриз, и вода начала играть искрящимся светом на фоне темнеющего горизонта. Пальмы качались на ветру. Вода была полна отражений; женщина стояла у Ворот Индии; была очень ясная, звездная ночь.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Она была случайным зрителем?
По городу ползли слухи. Она была реальным источником вдохновения для его работ? Он был тираном? Любовником, контролирующим каждый ее шаг? У этой грустной истории будет продолжение, или всё уже кончено? Если всё кончено, отменят ли они субботнюю вечеринку? Вопросы множатся. Все вопросы основаны на слухах. Я слышала, их расставание с Жаком наделало много шума. Сначала весь Париж ждал, когда они окажутся в постели. Потом все наблюдали за тем, что будет дальше, строили новые прогнозы, распускали слухи. Ей было двадцать пять, когда они сошлись, и тридцать пять, когда они расстались. Как и следовало ожидать, весь Париж наслаждался перипетиями их отношений. Пока слухи переходили из уст в уста, люди перешептывались, превращая реальные события в порочащие намеки и в игру слов: «Послушайте, не такая уж она невинная овечка. Говорят, он немного того, ну понимаете, тронулся чуть-чуть». Из-за слухов появлялись новые вопросы, а вопросы превращались в новые слухи, которые вошли в историю. Все постоянно перемывали им кости. Люди люди люди предавались сплетням сплетням сплетням. К тому моменту, как мы встретились, всё это уже кончилось. Голоса из прошлого не имели никакого эффекта; я ничего не слышала, я видела, что она — вопреки всеобщему мнению — не просто глупая актриса, чье жеманство доходит порой до абсурда. Мы только что закончили обедать. Мы тянули послеобеденное время, пока не настал вечер. Полулежа на подушках, она пребывала в оцепенении, которое было ей свойственно. Фифи Корде. Фифи Корде. Что вообще может быть свойственно такой, как она?
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Фифи поцеловала заплаканную мать, семерых братьев и трех сестер, хмурого отца, запрыгнула в поезд, высунула голову из окна и изо всех сил махала обеими руками, пока ее родня совсем не исчезла из вида. Она их обожала, но ей было наплевать, если она их больше не увидит. Ей было девятнадцать. Она ехала в Париж учиться у Марселя Марсо. Все говорили, что у нее есть дар, настоящее природное дарование. Фифи знала, что у нее большое будущее, она была уверена в себе и вынашивала планы. Она изучала карту Парижа, погружаясь с головой в романтические названия улиц, в свои фантазии, в ритм вагонных колес, которые выстукивали ее имя так долго, что оно начинало звучать по-дурацки. Рита, Риииииита, Рииитиииитиииита. Это ее сценический псевдоним, часть намеченного плана. Также частью плана были: ярко-синий лак для ногтей и темно-зеленая губная помада. Ей пришлось ждать несколько недель, чтобы добавить к своему образу этот последний штрих. Наедине с собой, в купе, она любовалась результатом. Он был хорош. Отныне это будет ее фирменный знак. Она покружилась вокруг своей оси, помахала руками, несколько раз надула губки, посмотрела на свое отражение в оконном стекле. За год она овладела всем, что мог дать ей М. М. А потом отказалась исполнять старые номера для мимов. Все лучшие части этих номеров доставались мужчинам. А потом она не приняла приглашение в труппу. Они поссорились. Она ушла. Он сказал ей никогда больше не называть его М. М. Всю зиму Фифи работала над новой программой, то и дело выступая в кафе и забегаловках. Хозяева заведений не могли ей отказать. Ее черные сверкающие глаза. Ее бешеная энергия. Они разрешали ей давать интермедии между основными номерами. Ей даже можно было передавать по залу большую вельветовую шляпу с мягкими полями. Это было частью её выступления. Она показывала последний номер под патефонную версию песни Билли Холидей Pennies from Heaven. Она точно знала, что нужно делать. Не играть на публику. Она просто пела «под фанеру». Когда зрители хлопали что есть мочи, она пробегала вокруг сцены, осыпая всех жестяными монетками вперемешку с конфетти и блестками. Они хлопали еще сильнее. Публика ее обожала. К концу лета Рита набрала достаточно материала и полностью сменила программу, посвятив ее узнаваемым образам Америки. Она изображала хиппи, ковбоя, туриста, старлетку, домохозяйку, гангстера. Быстрые небольшие зарисовки. Иногда — просто позы. А также — пародии на знаменитостей: Чарли Чаплина, Мэрилин Монро и прочих. Ей нужна была любовь этих французов, и она отлично знала, что делать. Все были без ума от Риты, от ее Америки. Хозяин французской кофейни на Рю де ла Гайете предложил ей постоянное место за хорошую плату. По средам и выходным. Она колебалась. Он предложил в придачу жилье над кофейней. Третий этаж, дальняя комната. Она согласилась. Зрители, которые ходили за ней по пятам по всему городу, теперь толпились у «Ле кафе». Это всё сильно осложняло. Рите нужно было постоянно придумывать новые номера. Когда они с месье Лепренсом, хозяином кофейни, сократили программу до одного выступления в неделю, стало полегче. Рита стала нарушать правила. Она произносила реплики или выкрикивала слова. Уважающий себя мим никогда не сделал бы такого! Она переодевалась прямо на сцене. Она будто бы облачалась в новую личность и окутывала себя атмосферой следующего номера. Это было мило. Она всё еще с трудом находила контакт с подобострастной публикой. Зрителям вечно было мало. Она не танцевала стриптиз. Она была настоящим художником. С месье Лепренсом у нее состоялась еще одна деловая встреча. Два представления в месяц — возможно, этого вполне достаточно. Четыре года они наслаждались успехом, и денег хватало. Рита немного устала. Она решила, что человек, стоящий в дверях, ошибся. Он выделялся из общей массы. Она отвернулась. Он подошел к столику. «Прошу прощения, я ищу брата, месье Лепренса». — «Он ненадолго вышел. Присаживайтесь». Жак сказал, что никогда не видел ее представлений, хотя, конечно, его брат и многие другие постоянно говорят о ее артистическом даровании. Они разговорились. Рита пригласила его на ближайшее выступление. Он пришел. Потом она предложила подняться к ней. Он согласился, но пробыл у нее всего несколько минут. Ему там сильно не понравилось. Повсюду нижнее белье. Всего один газовый рожок, рисунки и дурацкие постеры на стенах. Он сказал, что им нужно увидеться в другом месте. Когда? В субботу. Где? Бульвар Распай, 49. Во сколько? В 9:00. Она подумала, он странный. Она не понимала почему. Возможно, всё дело в портфеле, который он всегда таскает с собой. Или в его странных манерах. Наверное, ему не меньше тридцати пяти. Рита была слишком занята, чтобы думать о нем.
Ему было сорок лет.
Жак. Краткая история.
Во-первых, у него была удивительная память. Этому его дару способствовали заметки. Сотни, тысячи коротких записей и цитат на клочках бумаги, вырезки из газет, копии писем — все было рассортировано и хранилось в отдельных конвертах. Заметки классифицировались по теме или по названию, и нужную можно было легко найти, он дополнял их, постоянно использовал, перемещал, делал новые. Пятнадцать лет ушло на то, чтобы собрать по-настоящему достоверную информацию, но это того стоило. Память была его путеводителем в мире конвертов, книг с его пометками, тетрадей, где он делал неразборчивые записи. Это была тщательно разработанная система хранения многовековых традиций поэзии, журналистики, личной переписки, прозы, драматургии, философии, истории. Он писал обо всех человеческих наслаждениях страхах надеждах тревогах фантазиях. Пожалуй, это была одна из поистине всеобъемлющих хроник на Западе.
По субботам Жак давал приемы. Он доверял личному общению, и молва о его салоне разлеталась благодаря друзьям и друзьям друзей. Весь Париж бывал у него. Гостеприимство отражало одну из граней его характера. Кроме того, в характере Жака была консервативная жилка. Это никого не волновало. Гости считали его чудаком, может, немного эксцентриком, в худшем случае — оригиналом. Каждый, кто заходил к нему домой, слышал небольшую речь — его приветствие для новоприбывших: «Признаю, что в салонных делах я остаюсь приверженцем классики. Позволить себе флирт, увлечься женщиной, которая пришлась по нраву, улучить минутку с ней наедине, поговорить, понизив голос, в укромном уголке, рассказать ей свежие сплетни и поймать на себе одобрительный взгляд, просияв от радости… если салон этого не позволяет — для меня это не салон. О, пусть французские салоны не теряют всех этих знаков внимания и ухаживаний! Пусть салоны не утратят живого желания радовать и приносить удовольствие, ведь они — настоящее, неувядающее, очаровательное украшение Франции!»
Рита отвела его в сторону. «Послушайте, Жак, — сказала она, — вы не можете жить прошлым. Мы не в девятнадцатом веке. Одно дело — писать, думать и даже беспокоиться о прошлом. Совсем другое — жить им. Вы же не хотите утратить реальность и увязнуть в одиноких беседах с самим собой». Годы житейского опыта внезапно потеряли всякое значение. Разве мог он возразить и что-то противопоставить? Ее сияющим черным глазам. Ее синим ногтям. Ее зеленым губам.
Ей было двадцать пять.
Еще один короткий эпизод. Рита и Жак. Рита и Жак. Рита и Жак. Рита и Жак.
Когда мы встретились, всё это уже стало историей. Историей? Это не предмет для шуток! Я хочу поделиться с тобой мыслями впечатлениями идеями об истории. Об искусстве. Обо всём. Но она слушала вполуха, откинувшись на подушки. «Мне не интересны люди, в которых, кроме эстетизма, ничего и нет», — вздохнула Фифи. Мы только что закончили обедать; день постепенно переходил в вечер; я была всё еще полна впечатлениями от Востока. Я ехала в поезде. Я стояла на плоскогорье в пустыне Невада. Я хотела увлечь ее своим порывом чувств. «Годы житейского опыта потеряли всякое значение», — объяснила я.