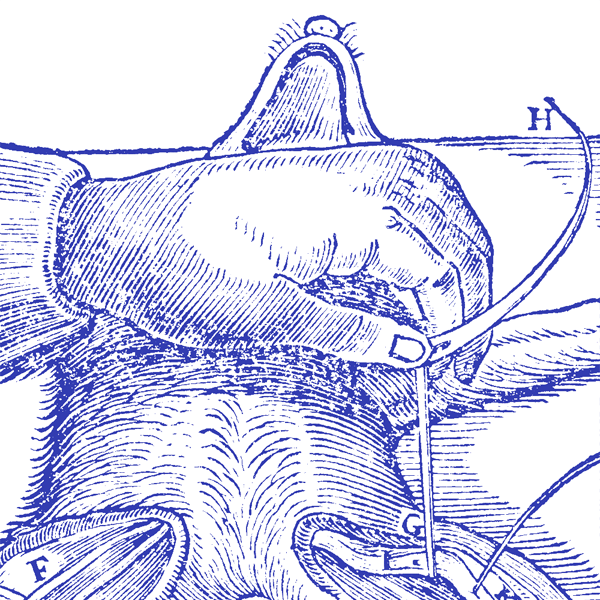
А вот это — нож, и какие слова о нем, или слова подождут до пенсии? Тебе будет разрешено все знать, особенно, все слова, и говорить их так, как хочется. Нож воткнут в ногу двадцатитрехлетнего мальчика, чуть выше колена, наверное, там ты оставил его четыре часа назад. Мальчик пришел из Ростова, умер несколько дней назад, из его паспорта ты знаешь полную дату рождения, отчество и прочерк отцовства. Все остальное — без паспорта, за четыре месяца — все одинаковые. Приходят от чехарды, неприкаянности, из своих углов, паутина, как же все заебало, и это — патриотизм. Сегодня четверг, и вчера в Берлине шестеро русских спели в одном из провинциальных театров песню под названием «Vater», ты учил немецкий в школе, да и так все понятно — на экране портрет президента, а у гроба священник и пятеро — это называется — художниц, они невесты с окровавленным передником, это репетиция смерти президента, медленная песня-обращение к отцу, по портрету — медленно кровь, в конце художницы достают из-под юбки окровавленную свиную печень и тянут ее вверх, тоже отцу. Ты знаешь, что сегодня началось из-за этого. Неважно. Ты думаешь об этом только потому, что нож воткнут в ногу двадцатитрехлетнего мальчика, рядом такие же, все они здесь по твоей вине, вине того, что отец еще не умер, по вине всего остального, что было когда-то, и к чему мы зачем-то возвращаемся, все из-за этого груза со школы, это прочитать и это, теперь мозг ищет аналогии и все становится просто, все это по вот этой вашей вине, наступает новый семнадцатый год или денег хватит еще на четыре и потом все, буржуазная революция, потом левая революция, что-то новое, мы переедем на эфирные двигатели, но в темных углах — все по их вине — и из темных углов видно, что ничего этого не будет. Ростислав приехал из Ростова, чтобы избавиться от колдовства имени, спаянности, и еще Настя беременна, все по ее вине — время серьезных вопросов, то ли сбежать сюда от нее, то ли время становиться героем. Убитые на востоке Украины лежат перед девочкой, которой, наверное, семнадцать, она тоже в белом, но это не свадебное, а просторное, обычное, просто ей нравится белый, и ты замечаешь нож чуть выше его колена. Когда ты разрезал веревки, нужно было что-то — ну для вины, что-то куда-то вместить, ты втыкаешь нож в его колено, это не художество, удобство вины и того, как легко в ней спрятаться, потому что это такое место — то, откуда вы бежите — оно с пробоиной черепа, четыреста пятнадцать человек вышли две недели назад на мост убитого с лозунгом — вот страна, она убила Мандельштама! — как будто это все объясняет.
Она сидит на коленках перед убитыми, ты их сюда положил, а она делает свое святотатство, ее слова поднимаются, и это просто взвесь несуразных слов. Ты четыре месяца доставляешь в Убежище, девочки всегда сидят на коленках перед этим кругом, ты раскладываешь их, чтобы они смотрели на мертвых мальчиков Донбасса влюбленными невестами, — вот и все, чем ты занимаешься. Убежище окружено старой крепостной стеной, или такой стеной, которая сложена из камней всех уничтоженных цитаделей, краеугольных камней и замковых камней раскулаченных семей. Убежище — это крепость, но не для таких, как ты, не она, и не для тех, кто виноват или не виноват. Старый дом в середине заданности, он из досок, у которых есть суть, тебе так говорила хозяйка дома, Убежища и даже стен, ты не сомневаешься, когда поднимаешься по лестнице — все чувствуется. Доски от старых фамильных каких-то кошерных и халяльных изб, вдребезги убитые кровью — она на все проливается — может быть, еще доски затонувших судов, все, из чего нельзя, оно вот из этого как бы сплетено, а не построено. Дорога до Убежища проходит через границу, и с тобой мертвые, но эта дорога как бы слегка поперек взгляду пограничника, если бы президент, который когда-то умрет, — и что тогда будет, будут ли площади, и вообще, как быстро скажут, что его больше нет с нами (?), — знал об этой дороге, всех бы везли в Убежище без твоей помощи, ты снова оказался бы не у дел, но президент только догадывается о подобного рода убежищах, он знает оффшорные черные дыры, но не знает, что туда можно прятать убитых. Четыре месяца туда и обратно, уменьшаешься и осознаешь узость черепа, все узости своего тела, вот вся история протекает через тебя, а уже ничего, она ни в чем не виновата перед тобой так же, как ты — невиновен. Причитания девочки над мертвыми мальчиками — это не нежность, и поэтому не жажда обладания, а когда у тебя мертвые, ты можешь переписать их прошлое, некронормативная матрица прощает все, но это не нежность, это вообще ничего, в Убежище все вознаграждается, функциональный периметр за крепостной стеной, в центре которого дом, в палисаднике дома — первые камни и под ними могилы, могилы расходятся дальше, круг за кругом, все Убежище — это они, вот и все, что тут есть, и хозяйка, которая платит тебе и девочкам.
Впервые — четыре месяца назад — тебя позвал сюда Сашка, ему никогда не обламывалось, это его первое, он сказал, что путь на Донбасс и взмахнул рукой, рядом с устьем большого пальца у него родинка пионерской звездочкой. Сашка кривился, если ты говорил «спизженная земля», у него политическое недоверие, он ищет книги, не написанные языком политики, такого нет — хаха — поэтому он ничего не читает, вам как бы не по пути, но случается всякое и вы давно — в друзьях, он даже знает, что тебя изнасиловали по дедовщине, когда ты служил на Краснодарском флоте, ты три месяца жил без этой вины, а потом уже — с ней, все получилось случайно, и никакая погода не предсказывала. Вот ты рассказал ему, ничего не облегчилось, это бывает — необлегчение — и бывает то, уже совсем все бывает, поэтому вы едете туда, чтобы работать на Убежище, а потом может быть спрятаться или, наконец, закуклиться в мягкость собственной плоти, ждать ее звонков, ее онкологий, и минуты белого света, когда мозг ищет аналог опыта умирания. Ты не испытываешь брезгливостижалостисахарностиничегонетаетнедрожит и не бьется, просто вы переносите мертвых в кузов твоей машины, а Сашка расплачивается с усатым добровольцем. Он продает чуваков, но это не предательство, эти деньги будут растрачены в России, а значит — чуваки денежным прахом вернутся на Родину. Если что, он продавал их под действием санкций, это давление сверху из небытия, важно считать это добровольным признанием, которое, как известно, может облегчить его вину, и пусть это зачтется в его трехмесячное условное заключение за продажу боевого товарища. Ты называешь его товарищ-доброволец, их выдают вместе с паспортами, чтобы все концы куда надо, так что скоро ты перестаешь запоминать имена. Вы едете гружеными, это первый страх, Сашка говорит, что она обещала, что ничего не случится, вы просто пересечете границу, но как бы не просто границу, а вначале границу Украины и России, а потом России и Убежища, но в момент перехода между Украиной и Россией случится транспозиция, ведь Убежище, конечно, не в России, оно просто наслаивается на нее, оно всегда там, где кровь, и где есть свежие трупы, оно аппликация поверх, в общем, когда граница просочится сквозь нас, мы будем и в России, и нет, в том ее векторе, к которому пришпилено Убежище… вот эти слова, о них стоит думать, когда втыкаешь нож чуть выше колена товарищу-мертвецу, первый раз у тебя мокрая спина, но вот граница, даже происходит уплотнение воздуха, а потом вы едете и впереди рассвет, он блещет по краю холма, и поднимаетесь на холм, здесь — сейчас, а потом всегда в этой точке — вы останавливаетесь, чтобы закурить. Просто нужно выдохнуть. Шесть трупов в вашей машине, граница позади, от напряжения ты громко кричишь, что это пиздец, но тебя никто не слышит, Сашка хохочет, вот это пиздец, это полный и глубочайший лютый ебаный пиздец… он ссыт с холма, вы одни в целом мире, транспозиция прошла успешно, две реальности состыковались, можно считать, что они одинаково уродливы, вот там товарищей грузят, а здесь растаможивают. Сашка лезет в бардачок, копается и выуживает старый плакат с голой телкой, и прячется от тебя. Он дрочит, чтобы выдрочить темноту. Это должно утечь или отметить, это ваш холм, здесь останавливаются ваши мертвецы, а потом вы везете их дальше. Убежище недалеко и далеко, вначале солнце слепит глаза, оно как раз напротив, и потом как бы из его ослепления — первые камни крепостной стены. Ты видел это много раз: а) в детстве, когда все хотят замок, свой замок, и не грязной скотиной, а помыкать скотиной, б) в школе вам говорят, что вот такое потом обстреляли из пушек, потому что замки — плохо, в них люди, которые других — за скотину и убой, в) на экскурсиях, когда еще — про Петра и отрезанные бороды, д) сейчас, он такой же, как на экскурсиях, но по ощущениям, будто «а» и «б» смешались и получилось что-то смежное, это трансмутация замка — очень сложно для слова. Зрение не подводит, крепостная стена укутана могильным мхом, и не видно никаких швов между стеной и горизонтом, будто Убежище всегда было здесь, просто никто не знал.
Сейчас слова для Убежища есть, после очередной раз холма и встречи со стеной, все нащупалось. Это не замок, а огороженное кладбище, и на нем только те, кого привезли за деньги, никто не добровольно и репрессией родственника в четыре стены. Может быть, ты должен говорить «братская могила» или «неизвестный солдат», все они — солдаты, соль земли, такое поют и возносят, и горит огонь, но ты почему-то не говоришь, эти мертвые, ты ведь тащишь их на своем плече, они омерзительно-темные для тебя, ты оправдан, а они виновны. Но им уготован последний мед, даже для темных отлучено доброе слово, оно найдено и одно повторено для каждого, плагиат этой скорби растекается по лицам мальчиков, а потом их глаза и их рот замуровывают воском. Хозяйка лично проверяет, чтобы веки и губы слиплись. Она обычная и нечего сказать, только вот налита капиталом хозяйки Убежища, а так ничего такого, ты видел лучше и хуже, и много хуже. Она напитана соками, но в ней нет того, что обычно провоцирует и вызывает желание пролить, в ней этого нет, она отлучена, и ее кожистый свет — он такой же, как у продавщиц мороженного. У тех волосы собраны в конский хвост, и ты, проходя мимо, пытаешься представить их секс. Он, наверное, есть, просто не очень словесный, для этого придумали игру темноты и стеснение, чтобы не обнажать прием. Хозяйка встречает у ворот Убежища, и смотрит на тела, пересчитывает, деньги — только кэшем, а потом тела надо сложить в кучу или ровный круг на поляне слева от дома, это единственное звено в цепи, что не занята кладбищем. Здесь всегда — девочка, она готова поминать мальчиков и гладить землю, думая о небесных женихах, и с закрытыми глазами читать стихи. Они всегда — эти девочки — читают стихи, как только замечают умерших. Их готовность оправдана страшным роком, страхом разочаровать, спровоцировать реальность, уйти из Убежища без награды. Если прислушаться к стихотворной истерии, то ясно, зачем они здесь; их слова заточены для слушателя, постепенно слова становятся сумбуром, и в какой-то момент чувством вины и криком — в этом момент уже не важно, плачет она по себе или по мальчикам и что с ними всеми было — она переполнена омерзением своих восемнадцати лет в окружении трупов, и режет себя и все остальное, ее слова — до этого не более, чем исписанный интимный альбом, обращение к первому мальчику, все то, чтобы собрать стадионы, слито с этими умершими во имя собранных стадионов, во имя призрака границы и великой нити державности, всего этого, на что они с этой девочкой — одной иглой, одним бисером, в какой-то момент она понимает это и начинает плакать, как по родному. Умершие братья по дискурсу рядом, и так до утра, там три ночи подряд, вот что их ждет.
Ты не покидаешь Убежище до окончания церемонии, ничего не впускается и не выходит, надо дождаться конца алхимии. Ты и хозяйка молча проводите дни в пустом доме, где только в гостиной сервировано и имитирует. Делай, что хочешь в молчании, иди по саду, читай надгробия. В первый вечер — чайная церемония, хозяйка знакомит тебя и свою новую гостью. Это поэтесса из Санкт-Петербурга, ей скоро девятнадцать лет, она уже выпустила четыре поэтические книги, и скоро в крупном московском издательстве выйдет пятая. История до Убежища звучит в Убежище шумом и нагромождением понятий. Вещи отлучены друг от друга, тебе приходится силой их склеивать. Ее зовут Серафима, у нее брекеты, она... и так далее. Серафима улыбается, и ее щеки краснеют, она была приглашена в Убежище, это честь, да, знает, что будет дальше, но в этом последнем песнопении, разве в нем нет благородства? Ты спрашиваешь ее, понимает ли она — вы втроем за большим столом — за что умерли эти шестеро. Она говорит, что они умерли, защищая русскую кровь. Ты спрашиваешь, что такое русская кровь. Она говорит, что это наше ощущение Родины внутри. Ты спрашиваешь, что такое Родина. Она говорит, что Родина это страна, в которой мы родились, и в которой есть особые традиции. Ты спрашиваешь, что такое страна. Она говорит, что это историческая территория нашей — опять это слово — Родина. Ты спрашиваешь, что такое история. Она говорит, что это память о том, что сделали наши предки. Ты спрашиваешь, знает ли она, что такое Катынь. Она говорит, что там поляки убили людей. Ты спрашиваешь, знает ли, при каких условиях. Она говорит, что это сложный и неоднозначный вопрос. Ты спрашиваешь, поддерживает ли она действующую власть. Она говорит, что не очень, но и не очень против. Ты спрашиваешь, не кажется ли ей, что любое понятие власти унизительно. Она говорит, что русскому народу нужен не только пряник, но и кнут, поэтому она все же поддерживает действующую власть. Ты спрашиваешь, не считает ли она, что тут и пряник похож на засушенное дерьмо. Она говорит, что у нее хорошая жизнь. Ты спрашиваешь, тогда на кой хер она здесь хер пойми где три дня будет читать мертвецам стихи. Она говорит, что это, чтобы… она лопается, она не хочет этого говорить, и ты давишь на нее, потому что она не считает нужным говорить об этом, это ведь может быть личным. Ты спрашиваешь, правда ли может быть личным, что она хер знает где будет читать хер знает кому свои ебаные стихи. Она говорит, что ей это надо и она это выбрала, и долго думала. Ты спрашиваешь, о чем она думала. Она говорит, что ее отец умер от рака, и она не хочет так, она не может больше так, она про другое и хочет другого, а вспоминает это, она хочет другого, и чтобы вот так, нужно делать хоть что-то, даже если переступать через себя и вот так. Ты спрашиваешь, вот эти мертвые, разве они не хотели большего и хотели, чтобы им читали стихи, потому что они сдохли за Родину в крови. Она говорит, что не знает. Каждый сам выбирает. Каждый сам идет, нащупывает, сложная материя, каждый сам… и пусть никто не вмешивается, она пускает декоративные слезы. Тебя переполняет тошнота, ты вспоминаешь нож, ты просто вбил его в ногу мертвому, просто помог своей руке опустеть, или что Сашка сдрочнул темноту, ты знаешь, почему она здесь, и почему вы здесь по одной причине из разных причин.
Хозяйке не важны чувства, еще в твой первый раз она рассказала, о чем Убежище. Здесь такие, как она, такие, как до нее, такие, как после нее, ищут нужное — великую кость, переполненную солнцем. Первая из них, из этих, повитуха костей, зачала дочь от берцовой кости возлюбленного, и теперь в Убежище только так, и чтобы уйти, нужно отдать Убежище дочери. Ни одна власть не уходит, она растворяется и поворачивает голову назад, посмотри, сравни, все такое же день за днем, мужчины привезут мертвых, графоманка начинает три дня экспромта, и когда-нибудь отыщется кость возлюбленного, точнее, вначале кость, а через нее — возлюбленный. Так было всегда, и впредь, само Убежище выстроено вокруг бессмысленного бормотания ритмизованных причитаний, и трубчатые волокна костей вступают с причитанием в резонанс, как бы просыпаются отдельно от тела и растворяют в Убежище свои подлинности. И так хозяйка нащупает через тех, кто привозит, кто отпевает, кто воюет, кто отправляет на войну, вспоминает историю, плюет на историю, пишет стихи, мечтает писать стихи, мечтает замуж, мечтает умереть, мечтает о Родине, репетирует смерть президента, целует умирающую мать, — своего ненаглядного. Серафима будет читать три дня, слова сольются в единое полотно, это уже не стихи, первопоэзия от исступления и голодных спазмов потечет сквозь нее, может быть, она сама заговорит Убежищем, а потом выйдет отсюда с деньгами, потому что по-другому — это вот, когда ее стихи миллионы слушают в такой же тишине, как эти стены, мох старых могил, подлинная кость же — в одном из тысячи, Серафима думает, что забудет или не забудет, но ведь у каждого такой продюсер, с которым ты трахалась, а потом ничего, у всех такое было, но только ты не трахалась, ты даже не трахалась, тебя выбрали гимном слияния с умершими за маленькую Родину, за неясное размытое пятно на карте территорий, ты как бы выбрана не отправлять их в смерть, а наоборот — выпячивать над поверхностью, означать святость их добровольности из Ростова в энтропию, и ты будешь с придыханием в строчках нести это вперед и вверх, твои красивые рифмы красноваты на разломах, ты не такая, как все, отделенная, отлученная, проспонсированная смертью, инвестировавшая в нативную рекламу и контекстный поиск, ты убежала от рака речью для двенадцати замазанных воском глаз. Стала новой пионерской звездочкой.
Возвращаясь, ты ищешь их поэтические имена в интернете, ты следишь некое время за движением, потом перестаешь, и снова отправляешься в Убежище, пока идет война, и время на твоей стороне. Нужно успеть, пока не закрыли оффшор, самое тяжелое — провести три дня в изоляции тишины, когда работа — все, а жизнь еще не вернулась. Ты стоишь в комнате на втором этаже, построенной из досок чужих домов, каких домов и домов ли, или все же судов, гильотин, брусьев, пробивших грудные клетки грузчика во время случайной аварии, и слушаешь, как внизу раздаются слова, в первый день осмысленные и по памяти, слова из себя и слова других поэтов, а потом артикуляция становится такой же, как этот дом и как жизнь в России, она стягивается в неясное уплотнение или наоборот разрыв, и всасывает в себя все смыслы, и расточается на землю, становится тем же самым, что просто выдрочить из себя вечную осень, и ничем другим, слушаешь, потом это надоедает, и ты пытаешься спастись от истерики Серафимы, и вот это время тянется безумно и неплодотворно долго. Когда-нибудь это завершается, и все едут домой, а хозяйка исследует результаты работы и, снова не найдя нужной кости, двигается вперед, а когда ты едешь с холма, крепостная стена Убежища как бы выкатывается на тебя из солнца, и в первый раз тебе кажется, что ты отыскал именно то, что нужно, а на самом деле даже Убежище прокатилось сквозь тебя и все, оно тоже осталось в прошлом. Даже если кажется, что не пройдет, нет, оно тоже растворяется и оседает, и что-то будет причудливо похоже на Убежище так же, как Убежище похоже одновременно на все остальное.
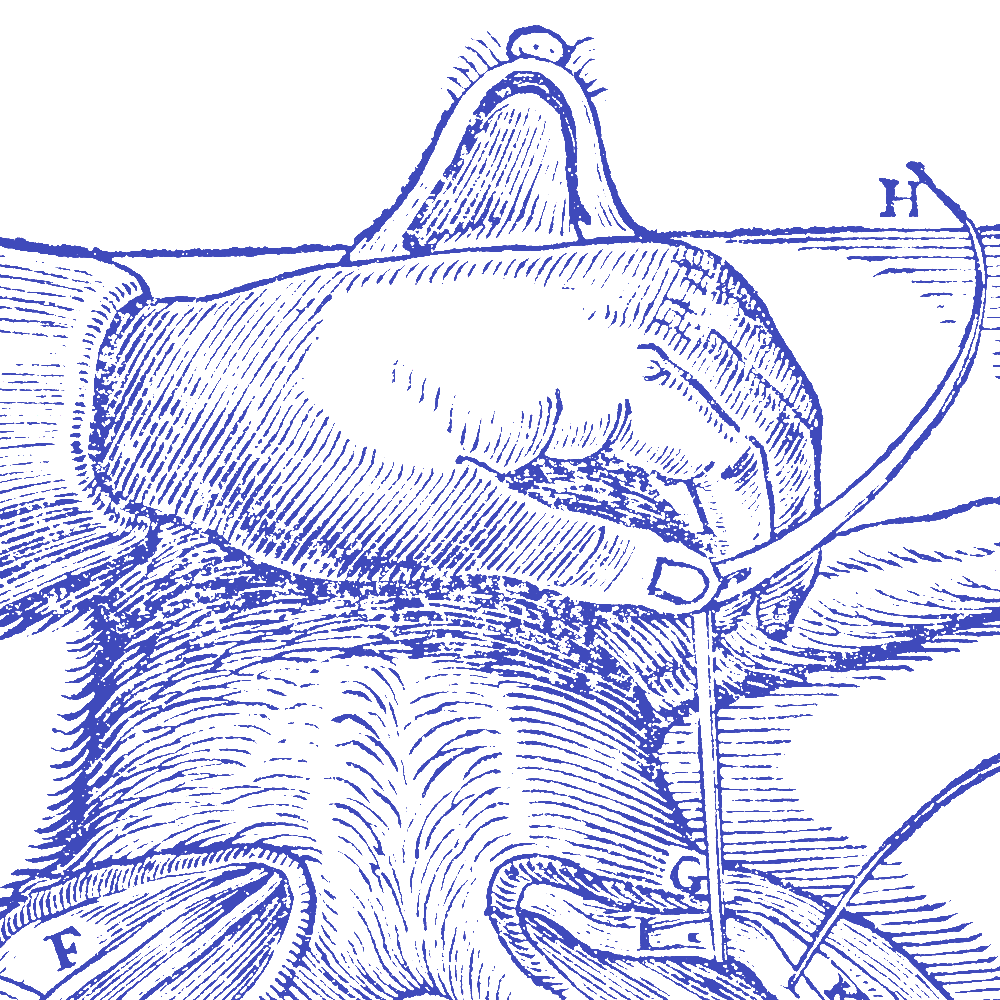
Эссеистика, true story, повседневность, фикшн, психоанализ и философия.
