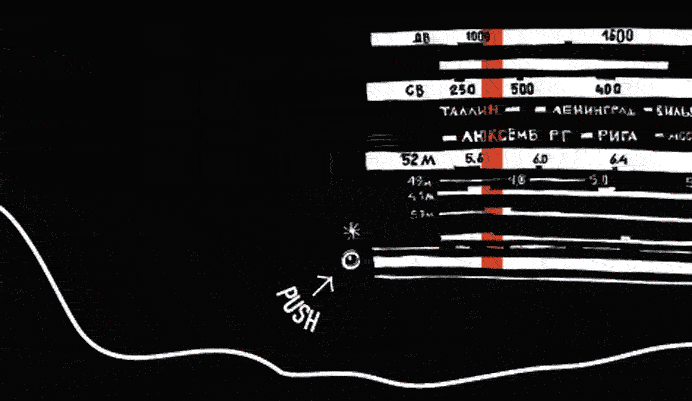«Последняя Бутылка
Рагнарёка»

Предисловие:
Посвящается моему другу Антону Трубайчуку ака Trooba
— Простите, да, да, Вы, простите пожалуйста, Вы, случайно, не подскажите, а где здесь аэрпопо…
Это слово совсем не хотело вылезать наружу, словно упёрлось белыми авиационными крыльями в обе стенки горла.
Аэпо…
Лишними были последние три рюмки чачи в подвале, который здесь, в далёком городе называли Рюмочной, в чем была определенная доля своеобразного и неуместного сарказма. Субстанцию с кодовым названием «Чача» разливала в одноразовые стаканчики, вместо закуски одноглазая продавщица, выдавала на белоснежной пластиковой посуде твердый полежавший хлеб с куском засохшего жёлтого сала на нем.
Насмешкой над мирозданием, сало венчал зеленый гребень петрушки.
От «Чачи» пахло чем угодно — спиртом и химией, потерянными надеждами и прожитыми жизнями, слезами грешников, но явно не достойным завершением вечера.
— Аэпорот, мне очень надо!
Одинокая бабушка, переходящая дорогу на окраине Челябинска явно не понимает и пытается поскорее убежать прочь от меня. Вот ее невысокий хромой силуэт теряется у большого бетонного забора.
— Он же улетит, этот проклятый самолёт точно, совсем точно улетит, улетит без меня, такое уже бывало, такое уже случалось, и такое будет вновь. Все вокруг ввинтилось в неразрывный цикл опозданий на самолёт, как будто я всегда на него не успеваю, а он все время улетает туда, далеко, где в северных снегах спит страшный пёс.
Каждый раз опаздываю.
И каждый раз из-за переизбытка или недостатка алкоголя.
В первом случае процесс пути в аэпор… аэрпорот… весьма тернист и труден. Дорога может пролегать через разные плоскости и измерения, наверное, поэтому все пути заканчиваются обычно в подъезде на окраине или на квартире у незнакомых знакомых, а порой эти две переменные перемежались, из чего рождалось что-то совсем уж угнетающее и тянущее душу вниз.
Порой, наоборот, аэпотр был недостижим из-за недостатка алкоголя, потому что в процессе отправления его, то есть алкоголя, было ещё слишком мало, а значит, актуализировалась срочная необходимость увеличить градус, а это неминуемо приводило к первому варианту.
Разрезая воздух руками, он уже набирает высоту и отрывается от земли, вот-вот, вот-вот и опустятся закрылки, а спящий город останется позади, его укроют облака, и он вовсе перестанет существовать.
Но вместо полета я падаю в снег у теплотрассы. И тогда все вокруг сворачивается как дешёвый холст для рисования и наступает только прозрачная тишина, в которой можно провести вечность, пока за городом не зарычит просыпающийся пес.
Она отругает меня, когда вернусь, наругает, потому что почти полгода не могу вернуться. Трудно ожидать от женщины благого расположения духа после полугода отсутствия. Критически невозможно и решительно невообразимо.
Я куплю ей цветов, ведь в карманах ещё есть какие-никакие, но деньги, которые главное не пропить, и куплю цветов, приду, а она простит, ведь что еще умеет простая русская женщина, кроме как страдать и прощать? Приду обязательно утром, чтобы было совсем неожиданно, и чтобы дети были дома, приду и обниму ее, потреплю сына по голове, и она простит, я верю, что простит.
Не сможет иначе.
Главное только передвигаться по городу перебежками от подъезда к подъезду, во-первых, потому что этот северный пёс может быть где-то рядом, а во-вторых, банально из-за холода и отсутствия у меня должной одежды, в-третьих, челябинские подъезды навевают восхитительную меланхолию, особенно, если всмотреться в бездонные очаги разбитых электросчетчиков. Если долго всматриваться в такой черный очаг, постепенно, он начнет всматриваться в тебя, а где-то в снегах зарычит северный пес.
Вы узнаете пустынного странника по походке и по выражению глаз. Не о крове будет думать он и отнюдь не о еде. Совсем не про душевный покой думает путник и не о деньгах на насущный хлеб мечтает это грязное и потрепанное серое создание, а только лишь о том, где после закрытия алкогольных магазинов можно найти бутылку-другую дешевого обжигающего трепетного коньяка.
Лучше бутылку Киновского, конечно, ведь он, окромя своей цены, обладает еще и прекрасным возвышенным действием на организм человека разумного, сравнимый исключительно с визитом в Рим ранней весной, когда до благорастворимого безумия приятно гулять по кварталу Де Треви, останавливаться у витрин и пить кофе из небольших белых чашечек. Или сравнимо с посещением самых дальних и неизвестных буддийских монастырей.
Другими словами, первостепенной задачей для любого потерянного и обездоленного в темный зимний вечер в темном зимнем Челябинске, когда гора экзистенциальных переживаний увеличивается в размерах, напоминая колючую рыбу фугу, становится поиск столь отдаленного и покинутого ларька, солнечного острова, обители тепла, светящего далекими огнями забытых маяков, куда так приятно зайти с мороза, потоптаться на грязноватом коврике, окинуть взглядом фигуристые бутылки на тесных полках.
Пять рублей оказались лишними.
Но сегодня их можно оставить на чай недоумевающей продавщице, которая, кажется, знала по-русски с десяток слов, семь из которых были названиями алкогольных напитков. Кажется, этой гордой дочери жарких степей, которая по злому року, по воле Шайтана, небесному провидению, оказалась в северном железном бастионе, кажется, ей сегодня можно отдать лишние пять рублей. Гуляй, дочь Чингисхана, танцуй семя Батыя, как никогда не танцуют русские, ибо в тебе еще, жива природа, в твоих глазах еще клубится дым кочевий, а на коже застыло ржавое поле, так радуйся и не смотри на меня, пока этот мир не съеден.
Не смотри на грустного русского человека, наша порода давно разучилась слышать ветер и слушать бурю, давай же сюда свой коньяк, дочь степей, сегодня сын народа, предавшего Царя и свергнувшего Бога, будет убивать себя так, как умеет, потому что у моего народа нет другого выхода, кроме как убить себя. У моего народа вообще не выходов, нет входов. У моего народа вообще ничего нет, кроме пронзительного взгляда и впалых глаз, он ничем не обладает и не хочет обладать, ему жарко в поле и холодно в городе. Народ мой – великий до глубины и до величия глубок, каждый его гордый представитель носит под сердцем такие бездны, такие космические величины и переменные, от которых у любого другого нормального человека мозг станет похож на манную кашу с изюмом и курагой.
Но я вру, я нагло вру и поддаюсь пессимизму, свойственному всем русским людям, нашему мерзлому морозному скепсису. Ведь у русских нет другой судьбы, кроме как сгореть дотла, испариться, оставив после себя пустое место.
Или
Или наоборот, воспрять, возродиться, прокричать во всю глотку в холодное черное небо, то самое, единственно русское небо, какое только и есть над Россией, над Вечной Россией, над Целой Вселенной, говорящей с Богом, только и умеющей говорить с Богом, ведь русские это бесконечный клич, бескрайний крик, абсолютный зов. Русские – это лязг цепей и залпы пушек, русские – это желание. Все захватить и подчинить, пройти вдоль всей Сибири и сделать ее своей, как попавшуюся на переходе степную женщину, это идея пойти открывать Антарктиду, вот где русская идея! Вот она, на той стороне Беренгова пролива, там, где полярная звезда, где грозный лик людей государевых зрит прямо в сердце, куда невидимой рукой тянется власть всепоглощающего Московского Царя.
Поставить флаг на обратной стороне Луны, написать на Марсе стихи Гумилева в дореформенной орфографии, сбросить в верхние слои атмосферы Юпитера краску, чтобы там был нарисован русский флаг, а потом драться не на жизнь, а на смерть, как только и умеют русские, из-за того, что это не тот самый флаг, который должен был быть, ведь у каждого русского флаг свой.
Это очистить весь мир, всю Вселенную, все бытие от зла, а потом начать творить зло самим, ведь тогда на поле не останется конкурентов, а мы любим большие просторы.
Так что продавай мне коньяк, моя темноглазая Шагане, моя смуглая Гюльчатай, продавай, пока русские спят, ведь когда они проснутся, а они обязательно проснутся как проснется северный пес, они придут к тебе и спросят, почему и зачем ты продавала им коньяк.
Почему древние скандинавы верили в конец мира объяснить еще было можно в отличие от того, зачем я рассказываю все это испуганной женщине в одиноком ларьке с 23 на 24 января, в это жуткое время, когда синевато-перегарный рокот одних праздников уже отступил, а новых ждать придется еще с месяц.
Что ты испуганно смотришь, дочь степей, бери мои пять рублей.
Живи и радуйся, ведь сегодня…
Сегодня.
Напряженная попытка вспомнить, какие в этот день могли быть праздники, но в голове всплывало только два повода 24 января – день памяти преподобного Феодосия Великого и День внешней разведки Украины. Поэтому пять рублей незамедлительно были переквалифицированы в милостыню, и, я стремительно удалился из ларька.
По ту сторону теплого света меня встретил спальный район, захлебнувшийся в стеклянном морозе.
Чистый свет фонарей и сплошное черное небо.
Кто-то на верхних этажах одного из тяжелых серых домов докурил и бросил вниз бычок, который упал прямо у моих ног.
Кто-то на верхних этажах докурил и закрыл окно.
Поэтому вниз посыпался серебряный снег.
Падал снег.
Снег шел на фоне чистого опрокинутого космического русского неба, подмороженного с двух сторон пронзительной вечностью.
И не было в этом мире ничего, кроме счастья.
Так и хотелось стоять и смотреть в глаза бесконечному Богу там, над всем сущим, сжимая в руке бутылку коньяка.
Пока на окраинах не зарычит пес.
А потом я выдернул пробку и прикоснулся губами к теплому стеклянному горлышку и сделал глоток, чтобы тепло оказалось внутри.
Оно разрубило меня на две части.
Как будто снеговика полили кипятком и от одной фигуры остались лишь несуразные пористые куски снега, которые разваливаются под северным холодным ветром.
Тепло прорывалось глубже, проваливалось сквозь землю, догорая последними огоньками, как непотушенный торфяник.
И вот уже самого тебя зарывают под почву, под лед, под слой грунта, вырытого грузным покоцанным ковшом старого экскаватора.
Я сделал еще пару глотков, и, убрав коньяк под пальто, пошел прямиком к остановке. Некогда стеклянную, типичную для наших морозных краев, остановку, которая ни от чего не защищает и не может защитить ни от одного дуновения ветра, окрасили в красивую и фигуристую паутину местные хулиганы, изрядно избив ее чем-то тяжелым и тупым на подобии молотков или собственных голов. Симпатичную паутину разбитого стекла нарушали многочисленные разноцветные объявления, предлагающие девушек различных цветов и расцветок по доступным ценам и на приятных условиях.
— Мужчина, — услышал я сзади, вы забыли свои пять рублей.
Я обернулся и увидел двух нетрезвых женщин, идущих к остановке. Одна выглядела как та самая соседка по лестничной клетке, которая ходит в цветастом старом халате и от которой в любое время пахнет водкой. Вторая не была красавицей, черты ее лица не сходились в нужных точках, однако во взгляде было что-то пленительное.
Они подошли ко мне и та, что была посимпатичнее, протянула маленькую блестящую пятирублевую монетку.
— Возьмите, это ваше, — сказал она милым голосом, — вы забыли сдачу.
— Я не думал, что в магазине был кто-то еще, — смущенно ответил я, — прошу простить меня за тот концерт, что я устроил.
— Да бросьте, вы ушли, не дождавшись аплодисментов, а их стоило выслушать, а потом, просто коньяк в ларьке стоит у самого входа, а пиво в другом конце зала, поэтому вы нас и не заметили.
— Надо было продавщицу не слушать, забрали бы себе, — пророкотала вторая женщина.
— Замолчи, — бесцеремонно ответила ей первая, — к слову, меня зовут Ольга.
Ее глаза маняще улыбнулись.
— Антон, — смущенно промолвил я.
Вдали послышался рык маршрутки, похожий.
— Очень приятно, кокетливо ответила она, — буду ждать следующего раза.
— В смысле?
— Челябинск, Монмартр, простите, не удержалась. Челябинск, окраина города, ночь 24 января, ваша проповедь. Это будет прекрасно, — она мечтательно закатила она глаза.
— Вы полагает, что через год я буду еще раз рассказывать то же самое? Я вряд ли еще раз окажусь в Челябинске, я тут по недоумению, я лечу домой, но каждый раз опаздываю на самолет, так что вынужден вас расстроить.
— А я и не говорила ничего про следующий год, — моя рука оказалась в ее руке, — я говорила совсем про другое, мы встретимся здесь же еще бесчисленное количество раз, ведь отсюда все и начинается.
— Начинается что?
— Отсюда начинается конец, точнее для вас он начнется отсюда, а для мира он начинается из уральских снегов России, думаете какая у России миссия может быть? Только здесь есть достаточная пустота, чтобы сдержать, да и то, ненадолго. Вы же летели на самолете через Россию? Вот так летишь шесть часов и ни одного огонька, а если в эту черноту всмотреться, то скоро начнешь видеть каждый черный разбитый электросчетчик в каждом подъезде, смотреть через него на Россию и сам скоро станешь чернотой. Станешь Россией.
— Простите, но видимо я слишком вдохновил вас своей речью.
— А может быть я вас своей, — она опять улыбнулась и нежно провела пальцами по моей ладони, — вы увидите снег без туч столько раз, сколько это возможно.
— Откуда вы знаете?
— Увидела сквозь стекло двери, когда пробивала пиво.
Звук мотора нарастал, теперь маршрутка была совсем рядом, казалось вот-вот и она вынырнет из-за поворота.
— Какие у вас громкие маршрутки, спасибо за пять рублей, очень вам благодарен.
— Не за что, дорогой, не прощаюсь, она повернулась и дернула за рукав вторую женщину, оставшуюся неизвестной.
Когда две ночные собеседницы уже дошли до ближайшего дома, Ольга крикнула мне еле-еле перебивая шум:
— И да, здесь не ходят маршрутки в аэропорт, здесь маршрутки вообще не ходят, это остановка вникуда!
И стремительно ринулась за угол дома.
Я отпил коньяк, покрутил пальцем у виска, ведь отчетливо слышал рык приближающегося транспорта, но чем дольше ждал, тем рык становился разнообразнее, громче, ближе. Как-будто с севера подходило что-то невообразимо большое и голодное.
— А что это рычит?! — крикнул я вслед женщинам, но ответа не последовало.
Тогда я ринулся к дому, крайняя дверь подъезда оказалась открыта, возможно они здесь, я юркнул внутрь и закричал что есть силы:
— Что это рычит?!
Ответа не последовало, рык нарастал, стены начинали резонировать, я сел у батареи, где нерадивые жильцы складировали мешки с мусором и впился в бутылку коньяка, почти разом ее опустошив. Со стены на меня смотрели бездны разбитых электрощитков, и, чем больше я всматривался, тем сильнее видел каждый подъезд в России, видел темноту и пустоту, которые, несмотря на свою мощь, не смогли сдержать рык.
Что-то закачало землю, выпитый залпом коньяк перехватил дыхание, свет начал моргать, я растянулся на полу, уперев взгляд в мертвецки-зеленый целофановый мешок с мусором, через пелену которого проглядывала мятая новогодняя открытка, на которой можно было прочитать надпись «С новым счастьем!».
Подъезд как будто схлопнулся, как будто его и населяющих его людей, капающих кранов и оплеванных лестниц никогда не было, словно все вокруг было лишь коконом для черноты из электрощитков.
Рык превратился в вибрацию, словно я оказался в чем-то двигающимся. Повернуть головой было тяжело, почти невообразимо, но, если открыть глаза, можно разглядеть только сплошное черное небо.
Ничего, кроме чистого опрокинутого космического русского неба, подмороженного с двух сторон пронзительной вечностью.