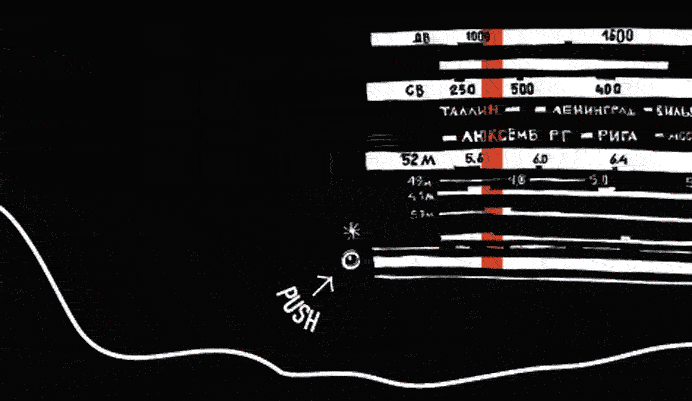Мы разделили его поровну, я рухнула к столу и забрала все разом, мозг обожгло, потолок стал резок, как злоба, кровь наполнила углы нашего разбитого номера, солнце поливало стены, ты и Маша упали вслед. Волосы, как электричество, светятся, вспышки цветов, говорю тебе, разнюхиваться здесь – одно удовольствие, особенно на пляже, под маленькими ведерками и сухими телами стариков, или в прохладном холле, насквозь пропахшем роскошью; сидеть, прикрывшись книгой и дежурной задумчивостью, наблюдать за какой-нибудь большой матерью многих детей. Эдакая скучная спесивая свинья, завернутая в полотенце, смотрит «Поле чудес», поглядывает неодобрительно. И, кстати, о детях – поднимаю руку, – кстати, нам таки запретили общаться с теми подростками, что стекались к нашему коньячному ручейку, хотя, конечно, все неправда, было единожды, а тогда мы просто стояли и обсуждали сухую курятину на ужин, но бешеные зрачки вожатой над моим лицом: «Я запреща-а-а-а-ю вам общаться с детьми!», и это шипящее: «Сразу поняла, что будут проблемы» за спиной. Боже, какая же дура, и мы смеемся одновременно, чуть хрипло и сдавленно, воздух горячий, тугой, будто ртуть, над этим столом, над этим островом, желтым и мертвым, усеянным маленькими красными людьми, домишками из белой извести, нищета из песка и неба – бери не хочу. Смеемся одновременно, у нас горячка, бессонница, отдых в конце концов. Маша доливает золотые остатки Джека в стакан – последнее золото, что осталось у нас. Поехали куда-нибудь, пока еще не слишком поздно, осталось всего дня три, говорит она, и правда. Встает быстро, решительно – шея багровая, истерзанная солнцем, вспухает под рубашкой, от этого не жди ничего хорошего. Маша рывком открывает балкон, и ничего не меняется, вижу все также ее у балкона, ее же, затягивающуюся в сумерках у подвального паба, злую и юную, пару дней назад, огоньки, как пульки, прыгают по лбу, рассвет дышит в спину, в порванное платье, знаешь, я чувствую здесь какую-то свободу, свободу, а как же иначе: душные дневные часы, пляж, мы лежим на камнях, и свет бесконечен, что может быть лучше, а ночи крепкие, как шоты, скорые; она уже прижимает какого-нибудь англичанина, в нежной южной подворотне закусывает ему губу, «u are so pretty», но что в этом интересного, скажи мне, здесь столько огня и сухого ветра, только подставь лицо. И мы шагаем с пирса нога в ногу, не сговариваясь, и точно так же решаем, что до обеда – только пиво. Официанты, лампы, скатерти, коктейли по цене нефритового кольца – это все до того, как мы уплетали обжигающую кукурузу на последние два евро, босые, сидя на берегу, и такое грубое счастье было все это: тропическая горячка, Маша, улетающая куда-то, остающаяся с кем-то в шуме прибоя и, о господи, потягивающая свой двойной на рассвете прямо в детском бассейне под неодобрительные возгласы мамаш. В своих холодных обрывочных снах я и теперь смотрю в эти бассейны, наполненные хлором и отражениями кипарисов, младенческими затылками, в этих снах я стою в тени у зонта со стаканом ноль пять, пальцы мои дрожат на стекле, стою и смотрю в сторону лежаков, где какой-то мужик с сэндвичем на груди кричит в телефон о тонкостях аудита, а Маша медленно возносит Джемесон над своей головой, и горькая кола с шипением льется по щекам, и путаются в волосах лимонные косточки. Лицо ее блаженно.
Знаешь, здесь я чувствую какую-то свободу. А по-другому не бывает, когда море до облаков и ноги в песке, дни напролет вижу ее над толпой на клубной улице, плывущую среди тел и крика, слепую, жадную, гребущую куда-то, а потом мы мчимся в неизвестность на белом мерседесе, на красном мини купере, кузов, черт знает что, ты ведь не хочешь, как все эти загорелые трупы из нашего отеля, забывшие вкус собственной крови, погребенные заживо, не хочешь?
Это так естественно – выезжать судьбе на встречную, но сейчас говорю: «Нет, нет, я больна, я устала», – слышу где-то свой голос. «Оставь, и тем более», – выворачиваю карманы, намекая на очевидное, но тени сгущались в номере, и Маша стояла у балкона, и доставала последнюю сигарету из самой последней пачки, глаза расширились до размера планет, внезапно осветив всю комнату – ни с чем не спутаешь такие глаза. «Оставайся», – тихо сказала она, «оставайся» как «сдавайся», ее безумное лицо, горящее надо мной, балконная дверь качалась, и мальтийский закат, как утопленник, сползал по стене. «Я напишу, как доберусь до центра».
Комната сразу опустела, и передо мной возникла лестница и красный ковер на ступенях, и я совсем не успевала за ней, когда вылетела в сумрачный холл, а затем в душную непроницаемую ночь, я услышала рычание мотора и заметила фигуру, едва различимую в темноте. Прыжок – и я могла бы, должна была, но скорость раскинула нас, пять, десять, пятьдесят, трасса воткнулась в горизонт, и тяжелые острые звезды упали мне на голову, унося и раскачивая то небо, под которым Маша уносилась на мотоцикле хозяина отеля, все дальше и дальше от бассейнов, смокингов, пластиковых тарелок с салатами, пятничных шоу, чудесного толстощекого карапуза, утюга с режимом пароварки, таунхауса в Новокосино, курицы по-купечески, бельгийского ламината, от той жизни, которой бы не вынесла она, жизни, которая бы не вынесла ее, прозрачная, слепая, в платье цвета погребального костра, похожего на крылья, под крики южной луны уносилась все дальше, сильнее зажимая газ, и опель впереди – почти как надежда, она влетает в него со всей скорости, бешено, закрывая глаза, под скрежет и дальний шум моря, шипящего по камням.