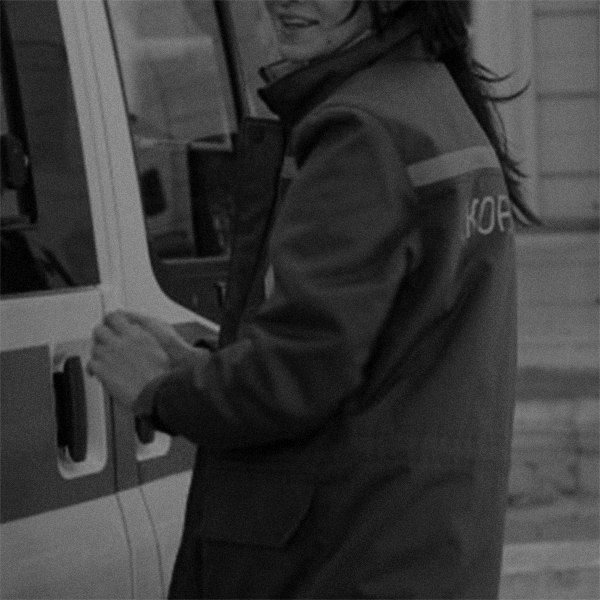глава пятая
НА ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Измученные, не евшие более суток, на притомленной, то и дело останавливающейся лошади, едва выбрались мы в хмурое снежное утро 15 ноября 1919 года на станцию Кормиловка.
Оказалось, что штаб 3-й армии уже продвинулся вперёд, но на станции ещё оставался Осведарм-3, то есть осведомительный отдел 3-й армии. Отделом печати заведовал там военный врач Охотин. Это был маленький черноглазый человечек, лысый, с остатками кудрявых волос на голове, с вечно сердитым взглядом сквозь толстые стёкла пенсне. По политической принадлежности – эсер.
И как эсер он принял нас с Ауслендером в штыки. Хотя он отлично знал Ауслендера, известного писателя, автора брошюры-панегирика «Адмирал Колчак», переведённой на все языки Европы и выпущенной чуть ли не миллионным тиражом. Знал, что тот был корреспондентом при генерале Сахарове, командовавшем 3-й армией, знал, что мы оба из РБП, и тем не менее заявил нам обоим, стоя на пороге своего американского вагона-редакции, что «посторонним сюда нельзя!»
Мой спутник был так слаб, так измотан, что чуть не падал в обморок. Мы всё-таки забрались в щелястый, выдутый ветром вагон, а доктор Охотин скрылся в своей каморке, раздражённо хлопнув дверью.
На мою просьбу дать стакан чаю, чтобы согреть обмороженного, дрожащего Ауслендера, он буркнул из-за двери:
— Попросите у солдата!
Со стаканом чая Сергей Абрамович примостился было у печки в углу вагона, но австриец-военнопленный по распоряжению Охотина грубо прогнал его оттуда.
У нас обоих были бумаги за подписью главкома генерала Сахарова, разрешавшие нам находиться при штабах всех армий, но, забыв об этом в первую минуту, мы потом их и не показывали: было любопытно, до каких же пределов дойдёт ненависть Охотина и его собратьев по казённому перу.
Эшелон Осведарма был колоссален. Тут размещались и типография, и кабинеты редакции, и склады бумаги, и помещения персонала, и кухня.
Но на мой вопрос, нельзя ли нам хоть за плату получить обед, доктор ответил:
— Посторонним нельзя!
Мы сидели в холодном помещении редакции. Кроме нас, тут же находились двое больных сыпняком – один лежал на столе, другой – на скамейке.
Вошёл хмурый поручик, стал рыться в шкафах с книгами. Это был библиотекарь.
— Нельзя ли книжку взять почитать? – спросил я.
— Посторонним нельзя! Обратитесь к доктору.
Пошёл я к доктору – отказать мне было бы слишком нелепо. Но из-за двери каморки Охотин крикнул:
— Возьми с него расписку. Энциклопедии не давать!
В чём дело? За что такая была на нас немилость?
И только потом, когда из каморки доктора Охотина вышел А. И. Манкевич, бывший управляющий отделом печати при директории и при Колчаке, тоже эсер, дело стало ясно. Мы же ведь были представителями официального Омска, «доказавшего свою несостоятельность»!
Всех этих добрых людей с их семьями и вывозил теперь из Омска их политический комбатант доктор Охотин.
Политический террор по отношению к нам рос изо дня в день. А поезд всё стоял и стоял на месте и, лишь изредка проскрипев версту-полторы, останавливался снова.
Последней кознью эсеровской, упавшей на нашу голову, было выселение нас – меня и Ауслендера – в вагон для сотрудников, водительствовал которыми древний старик А. С. Пругавин[1], известный исследователь сектантства и монастырских тюрем. В его подчинении были и лихие фельетонисты, и пламенные статейщики, и даже поэты… Трое из этой братии лежали в сыпняке.
В этом же поезде – в своём крохотном вагоне третьего класса – ехал епископ уфимский Андрей (в миру князь Ухтомский[2]), примкнувший тогда к старообрядчеству. Беседы с ним по вечерам были нашим развлечением. Пылкий, горячий проповедник, протестант по духу, поборник церковного прихода, он вовсю громил наше официальное, «пьяное православие».
Однажды, вернувшись от епископа, я не нашёл в редакции Ауслендера – его насильно переселили в вагон сотрудников, на место больных, сданных в санитарный поезд.
Я бросился в литераторский вагон, где было темно и душно. Топилась печка, перед которой сидел некий полунагой писатель и бил в рубашке вшей. Ауслендер с философским спокойствием восседал на отведённом ему месте. Рядом с ним примостился подобранный нами на путях польский офицер С. Н. Шанявский.
Я побежал к доктору Охотину, и тот мне сообщил, что с завтрашнего дня будет выходить газета и мы в редакции мешаем…
— Но тут же пустой вагон, а там все диваны кишат вшами!
— Ничего, – ответил доктор Охотин. – Вытрите их бумагой! Придерживая ручку двери, которую доктор тянул изо всех сил к себе, я сказал ему в ясных и точных выражениях, что думаю о нём и его поведении.
Дождавшись утра, мы трое – Ауслендер, Шанявский и я – ушли из Осведарма-3.
Положение значительно усложнялось. Если до станции Татарская составы ещё двигались кое-как, помаленьку, несмотря на то, что и паровозы замёрзли, и воды станции не давали, то здесь на магистраль выходили польские эшелоны с боковой ветки и занимали прочно нечётный путь, по которому шли и санитарные поезда.
О, эти санитарные поезда, поезда сыпнотифозных! Заболевали технички, заболевал врачебный персонал. При нас в пермском поезде докторов Ногаева и Азерьера, с которыми мы проехали на Татарскую с десяток вёрст, заболели четыре сестры милосердия и медик-студент.
Не хватало рук для обслуживания больных, как и для обслуживания паровозов, и те замерзали. Страшны были эти огромные печальные эшелоны, где метались в жару брошенные больные. Там скоро исчезали и запасы продовольствия. Слабые, уже выздоравливающие люди погибали от голода и жажды, замерзали в нетопленых вагонах.
Число мертвецов в вагонах росло. Проходя по невероятно загаженным путям, мы постоянно видели торчащие с площадок, из дверей вагонов белые, как бумага, ноги покойников. Обувь, конечно, уносили живые.
Потом покойниками стали загружать железнодорожные платформы, набивали ими целые вагоны. На какой-то станции я видел, как с одной такой платформы выгружали в дровни мёрзлые трупы. От ударов о дровни отлетали пальцы, кисти рук покойников и оставались лежать между рельс.
Чем дальше на восток, тем больше становилось трупов. Нельзя было ночью пройти по рельсам, чтобы не споткнуться о мертвеца.
Благодаря нашему спутнику -поляку мы с Ауслендером после станции Татарская были приняты в польский эшелон, под командой капитана Сыроватки. Молодой, элегантный австрийский поляк, он проявлял к нам полное внимание и любезность.
И потянулись однообразные, длинные дни в вагоне. Справа и слева от линии железной дороги тащились обозы, с утра до вечера раздавался монотонный скрип полозьев.
Стали отставать санитарные составы, застревать на станциях, где было срублено, снесено, сожжено всё, что могло гореть: заборы, усадьбы, отхожие места, деревья… А движение продолжалось, несмотря на саботаж железнодорожников. Например, техперсонал станции Чулымская сам поставил себе норму: отправлять по одному эшелону в сутки. На этой же станции был установлен порядок — три конные подводы возили уголь, и только восемь часов в день. И это – при непрерывном движении!
Всё же через две недели мы были уже на станции Чик, где наняли тройку лошадей и утром 3 декабря по льду Оби выехали в Новониколаевск.
глава шестая
ПЕРЕВОРОТЫ В НОВОНИКОЛАЕВСКЕ
Новониколаевск в конце ноября – начале декабря 1919 года был единственным городом, где оставалась какая-то видимость власти омского правительства. Совет министров, правда, не выявлял здесь сколь-нибудь деятельности, он спешил в Иркутск. Но пребывание самого Колчака, высших войсковых начальников, настроение местной, а также пришлой общественности, напуганной неудачами на фронте, – всё создало в Новониколаевске некий кратковременный эффектный узел.
В Новониколаевске возникло Особое совещание общественных организаций, которое пыталось остановить окончательный развал фронта. Наряду с ним, однако, выявились те центробежные силы, которые и привели к распаду омской государственности.
Как я писал выше, в Новониколаевске велась работа по организации дружин Св. Креста[3] и Зелёного знамени. Обстановка была удобная для добровольческого движения – имелось зажиточное крестьянство, много кооперативных объединений, немало сделавших для улучшения жизни богатого края. Кооперативы, естественно, не могли ждать больших удобств для своей деятельности от советской власти и охотно предоставляли свои ячейки для распространения омской литературы. Кроме того, Барнаульский и Алтайский районы были густо населены старообрядцами, что тоже сказывалось на добровольческом движении. Борьбы они не боялись, и идея министра В. Н. Пепеляева о формировании дружин самообороны имела там успех. В некоторых местах, по приговору сельских сходов, проведена была мобилизация и произошли уже стычки с красными партизанами.
Особое совещание в этот угрожающий момент могло бы сыграть некоторую роль, когда оно, под водительством поручика И. И. Васильева и крепкого старообрядца Ф. Е. Мельникова[4], приняло меры для объединения с правыми и левыми кооператорами до Центросоюза включительно. Эта группа, однако, поддерживала генерала М. К. Дитерихса, считала его отставку ошибочной и, отправив делегацию к А. В. Колчаку, сделала ему представление об отставке генерала К. В. Сахарова. Другая делегация того же корня, в составе журналиста М. С. Лембича[5], старообрядца Ф. Е. Мельникова и священника отца Георгия Жука, представила Колчаку проект нового управления территорией Сибири. По их мнению, надо было сформировать два округа – Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, во главе с генералами В. В. Голицыным и М. К. Дитерихсом. Общими вооружёнными силами должен был командовать генерал А. Н. Пепеляев. Насколько имя генерала Пепеляева было популярно, доказывает то, что генерал А. И. Андогский, начальник Академии Генерального штаба, обещал, что объединит вокруг сильного сибиряка Пепеляева всех офицеров академии.
Предполагалось создание двух отдельных правительств – в Новониколаевске и в Иркутске, причём в Новониколаевске в этой роли должно было выступить Особое совещание.
Ясно, что сама возможность таких широких планов, предъявленных Колчаку, прежде всего свидетельствовала о панике, которая охватила омские круги. Колчак обошёлся и с Особым совещанием, и со второй делегацией очень круто, хотя сперва как будто и сочувствовал таким проектам; за их деятелей взялись ретивые контрразведчики. Тем пришлось бежать, даже такому адаманту борьбы против большевизма, как старообрядец Ф. Е. Мельников.
Вся эта группа рассыпалась, исчезла.
Уехал из Новониколаевска на восток Колчак, уехал главком генерал Сахаров. Слышно было, что центром борьбы против Красной армии предполагалось сделать станцию Тайга. Туда уже отошла 1-я армия генерала Пепеляева, растянутая до Ачинска, за которым стоял сильный своими артиллерией и гарнизоном Красноярск с генералом Зиневичем.
Тогда в Новониколаевске зазвучали другие речи, зазвенели иные мотивы. В этой бесплодной, судорожной толчее планов, отходов, разочарований, слухов всё чаще и чаще стало раздаваться слово «мир». Говорили, что большевики «уже не те». Но эшелоны из Омска с многолюдным населением продолжали стоять по железнодорожной линии до самой реки Оби, и Красная армия отрезала от них всё новые и новые куски добычи. Это поддерживало панику. Да и положение на станции Новониколаевск – с её разношёрстной иностранной комендатурой, с взяточничеством за вытягивание эшелонов – даже с медалями от американцев, жалуемыми железнодорожникам «за спасение», – действовало деморализующе. К тому же крепла мысль, что и офицеры могут служить в Красной армии в качестве военспецов. И вот около 7 декабря молодой, двадцатичетырёхлетний полковник Ивакин[6], командир 2-го Барабинского полка, выступил открыто с предложением: заключить с большевиками мир. Главное условие его: Сибирь остаётся демократической и свободной, с армией, во главе которой – генерал Пепеляев.
Тут же стала известна телеграмма полковника Кононова, начальника штаба генерала Пепеляева, в адрес полковника Ивакина, где он просил поддерживать кандидатуру генерала Пепеляева лишь в течение двух-трёх дней: генерал Пепеляев стоит-де на точке зрения продолжения гражданской войны, но партия эсеров требует демократического мира, каковой вопрос ещё подлежит решению.
Всё дело оказалось заговором нескольких молодых горячих голов, забывших, что для прекращения гражданской войны нужна зрелая организация, сковывающая и армии, и общество в единое целое. В противном случае такие действия вели лишь к расплёскиванию её пламени. Выступив с оружием в руках, барабинцы заняли некоторые правительственные учреждения Новониколаевска, а ночью небольшая часть их явилась на станцию, чтобы арестовать там командующего 2-й армией генерала Войцеховского и полностью взять власть в свои руки.
Очевидцы рассказывали, что отряд этот долго стоял на перроне в нерешительности. Так же точно держалась и охрана штаба 2-й армии. Но тут вмешался начальник штаба польской дивизии полковник Румша и арестовал всех чинов отряда. Схвачены были и другие барабинцы, в том числе полковник Ивакин.
По приговору военно-полевого суда полковник Ивакин и с ним тридцать его офицеров были немедленно расстреляны.
Дни распада, слабоволия, дикой недисциплинированности, неорганизованных действий угнетали душу. Делать в Новониколаевске было нечего. Закрыл я отделение Русского бюро печати, служащие сели в вагоны. Нужно было снова искать место, где можно было как-то работать. На железную дорогу больше рассчитывать не приходилось, и я вместе с поручиком Васильевым сел на лошадей и выехал на станцию «Тайга», где стоял штаб 1-й армии генерала А. Н. Пепеляева – общей надежды и упования.
Мы ведь знали, что пепеляевская армия дралась вообще неплохо; слышали, что в Томск, к брату, поехал и министр В. Н. Пепеляев. От братьев-сибиряков ждали чуда.
Ехали мы небольшим отрядом, состоявшим из офицеров, добровольцев-крестоносцев и мусульман; некоторые были с семьями. Было нас человек сто, командиром мы выбрали оренбургского казака, войскового старшину Гаврилу Васильевича Энборисова[7], одно время партизанившего под Оренбургом.
До станции «Тайга» добрались очень удачно. По пути проезжали великолепными кедрачами, и весёлые белки, перелетая с дерева на дерево, сваливали на нас целые сугробы снега.
Дома в селеньях, сложенные из кедрового древнего леса, напоминали картины Н. К. Рериха. В каждом из них – натёртые жёлтые полы, стеклянные горки с посудой, фарфором, серебром. Сам сытый быт, само благополучие «чалдонов»[8]!
Но деревни новосёлов выглядели иначе: эти люди не были «чалдонами». Среди мощных лесов жили в жалких мазанках, не отличаясь проявлением инициативы, были, конечно, экономически зависимы от старожилов, что должно было дать пищу огню гражданской розни. Равенство экономических условий даёт не всегда равное благополучие.
Однажды утром вынырнули мы из леса и выехали к станции «Тайга». Сибирские шатровые крыши под снегом, дым из труб – это как везде. Но с ужасом я смотрел на рельсы и видел, что чётный путь был на четверть завален снегом, стало быть, оставался за всё про всё один только путь – нечётный.
А это означало крах эвакуации!
Остановился я в семье какого-то зажиточного железнодорожника, всё время неутомимо жаловавшегося, что инженер получает жалованье большее, чем он. Пошли на станцию, чтобы узнать, где находятся генерал Пепеляев и его штаб, и сразу же были охвачены разыгравшимся здесь большим скандалом.
За несколько дней до нашего появления на станции «Тайга» там ещё стояли составы главнокомандующего генерала Сахарова и адмирала Колчака, стояли рядом у перрона.
К Колчаку, оказывается, явились оба брата Пепеляевы, министр и генерал, «братья-разбойники», как их иногда именовали, и предъявили «диктатору» ультиматум из трёх пунктов:
1. Отстранить от командования генерала Сахарова.
2. Главкомом назначить генерала Дитерихса.
3. Собрать Сибирское демократическое законодательное собрание.
На первые два условия Колчак согласился – Сахаров был отрешён от командования, над ним назначили следствие. Дитерихсу предложено было вступить в главнокомандование, но тот от него телеграммой отказался. Главкомом был назначен генерал Каппель.
Решение по пункту третьему отложили до Иркутска.
На станции «Тайга» Колчак был полностью в руках братьев Пепеляевых.
Во время его беседы с «братьями-разбойниками» гренадерский батальон стоял на платформе вокзала вместе с пепеляевским же 6-м Мариинским полком, выставив пулемёты и развернув бело-зелёные сибирские знамёна.
Переговоры заняли двое суток. Генерал Сахаров держался с большим достоинством и отказался от командования сразу же, чтобы не осложнять положение.
«Братья-разбойники» укатили в Томск. Поезд «верховного» двинулся вперёд, чтобы застрять в Нижнеудинске.
В. Н. Пепеляев скоро выехал из Томска на восток, чтобы разделить участь А. В. Колчака.
Генерал Каппель вступил в командование расстроенной, ослабленной армией.
Только Ижевский и Воткинский рабочие полки её дрались героически в арьергарде.
Беседуя с офицерам 6-го Мариинского полка, я услышал совершенно ясные заявления:
— Как начальство, так и мы!
— Пойдём куда подальше, на Лену, — золото мыть! По Джеку Лондону!
— К чертям эту волынку!
— Мир!
— Даёшь мир!
Эти люди не видели больше смысла в этой борьбе. Губы их вздрагивали, глаза смотрели обиженно и иронично.
И действительно, вслед за тайгинским инцидентом последовали восстание в Томске, выступление генерала Зиневича в Красноярске, переворот штабс-капитана Калашникова в Иркутске, восстание во Владивостоке…
Государственная организация Омска распускалась по петлям в нитку, как бабушкин чулок.
глава седьмая
ПОТЕРЯН И ТОМСК
В середине декабря я снова очутился в Томске. Сколько перемен! Омск пал, весть о занятии Новониколаевска Красной армией уже достигла Томска. Но город был по-прежнему спокоен – удалённое его положение «аппендикса» на Великой Сибирской магистрали тому способствовало. Выбраться по железной дороге на «Тайгу» и на магистраль и думать нечего было. Томичи покорно, лояльно даже были готовы покориться судьбе.
В интеллигентских кругах Томска к тому же господствовало убеждение, что «большевики теперь другие». Откуда появилось оно, трудно сказать.
По заснеженным улицам Томска без конца тянулись уходящие воинские части, обозы. Но увозилось не то, что в Омске – тут части отходили в порядке и везли продовольствие, боеприпасы… У всех солдат на «колчаковках» красовались бело-зелёные ленточки.
Уезжали по тракту и частные лица, но таких было мало. Зато готовились к превратностям пути изобретательно. На улице, против книжного магазина Макушина, видел я подготовленные для пути дровни. На дровнях был поставлен небольшой домик с окошком и с трубой, из которой валил дым.
Первый мой визит, естественно, был в штаб генерала Пепеляева. Загнанные в тупик на станции «Томск-II», стояли тяжёлые эшелоны штаба – их было три. Со мною был поручик П. И. Васильев; нас принял начальник штаба полковник Кононов.
Васильев развивал свои положения о наборе добровольцев; я привёл соображения о работе печати.
Полковник выслушал нас, пощипывая острую белокурую бородку. И заявил:
— Дело обстоит так: боёв западнее Томска не будет, армия оттягивается восточнее… Так как она войдёт в бесхлебный район, то операций тут никаких вести не придётся за недостатком снабжения, да ещё и угля. Анжерские копи – уже в руках красных! Железнодорожные линии восточнее Томска – в руках чехов, и заняты они ими на продолжительный срок. Армии как таковой действовать не придётся, операции могут быть только партизанского характера, каковые, однако, бесполезны. Я удерживаю от них генерала Пепеляева. Всё наше дело проиграно потому, что тогда, в «Тайге», не был сброшен Колчак. Стало быть, вся ваша работа бесполезна: когда вы будете в Ачинском и Мариинском уездах, там уже будем и мы!
Всё это оправдалось впоследствии. И хотя Васильев и получил бумагу от Пепеляева, назначавшую его уполномоченным по формированию добровольческих частей в указанных уездах, а также в Красноярском, но пустить её в ход не удалось. События разыгрывались стремительнее, чем предполагал полковник Кононов.
Томск всё больше и больше полнился разговорами, слухами о демократическом мире. Говорили определённо о том, что полковник Кононов ведёт по этому поводу переговоры с некими социалистическими кругами, вставшими на точку зрения примирения с советской властью и предъявлявшими ей требования «демократических гарантий».
Переговоры и встречи эти будто бы велись у богатого томского адвоката В. П. Зеленского[9], состоявшего на военной службе и устроившегося в редакции газеты «Русский голос», редактором которой был профессор М. М. Хватов. В качестве одного из главных деятелей в этой комбинации называли беженца-пермяка А. И. Габриловича, человека весьма любопытного.
Старый политический ссыльный, эсер, моряк, он выплыл в Перми в 1917 году, амнистированный после революции. Там играл видную роль в Совете солдатских и рабочих депутатов. Во время корниловского мятежа в громовой речи Габрилович «заклеймил позором» всё гарнизонное собрание офицеров и призвал их «к творчеству». После Октябрьского переворота он сошёл со сцены, а с весны 1918 года начал сплачивать офицерские организации. После захвата Перми генералом Пепеляевым Габрилович «разочарован», отходит от работы, но, эвакуированный в Омск, решает опять «бороться с большевиками». Бывал он и у нас, в РБП, где ему были предложены все технические средства – машины и бумага, чтобы он и его товарищи использовали их для борьбы — как им угодно, без контроля с нашей стороны, но только против большевиков. Долго велись переговоры, но обрывались.
— Мы боимся, что это будет зубатовщина! – сказал наконец этот эсер.
Однако согласился заниматься вербовкой добровольцев и поехал в Томск, где был назначен начальником вербовочного пункта. Встречаясь с ним, я постоянно видел его в состоянии неустойчивого возмущения. До падения Омска он страстно возмущался действиями чинов омского правительства, их небрежностью, равнодушием к людям и т. д. Конечно, многое было достойно возмущения, но оно просто не позволяло Габриловичу что-либо делать. После падения Омска он с такой же страстностью стал организовывать мир, как раньше готовил гражданскую войну. Это был такой типичный, путаный русский интеллигент!
В совещаниях в барской квартире В. П. Зеленского принимал участие и молодой командир 25-го Екатеринбургского имени адмирала Колчака полка, потом ставшего 13-м добровольческим, полковник Б. А. Герасимов. Эта группа и действовала в основном.
В самый день оставления Томска пепеляевскими частями по всем улицам был расклеен приказ за подписью генерала Пепеляева и его начштаба полковника Кононова о том, что ими, ввиду отхода войск, «вся власть» в городе передаётся томскому комитету самообороны!
Такой комитет был заранее избран «всенародным» голосованием и должен был получить что-то около шести тысяч винтовок, пулемёты, гранаты и т. д. И так сложна психология русского человека, а тут ему ещё приходилось опасаться, как бы с оружием не попасть в руки большевикам. Это же явное доказательно неблагонамеренности!
Случилось то, что и должно было случиться: оружие попало хоть и в смелые руки, да только не в те, для которых оно предназначалось. С наступлением темноты в тот день в городе началась отчаянная стрельба.
В это время я выходил из квартиры одного своего университетского приятеля, куда был принуждён пойти перекусить, потому что все рестораны в городе были закрыты. Услыхав стрельбу, я решил немедленно узнать, в чём дело, и направился в штаб гренадерского батальона, охранявшего самого генерала Пепеляева. Батальон этот стоял в Доме науки сибирского просветителя Макушина. Над крышей его ещё сегодня утром вился бело-зелёный флаг.
Я вышел на площадь. Было уже почти темно, только одинокий фонарь у Дома науки сыпал сухой, ослепительный свет. Со стороны дома грянул вдруг выстрел, раздались крики:
— Тащи пулемёты!
Это восстал гренадерский батальон, надежда генерала Пепеляева! Солдаты готовились идти на станцию «Томск-II», чтобы захватить своего командующего. Выдав его Красной армии, они добились бы заключения мира гораздо проще.
Я бросился через площадь, мимо какого-то монастыря к станции. Поезд штаба должен был уйти около двух часов ночи, теперь же было часов семь вечера. Однако, когда я примчался к эшелону, офицеры с фонарями уже осматривали тележки вагонов.
На ходу я вскочил в вагон – поезд трогался.
Профиль пути между станциями «Томск-II» и «Томск-I» представлял собой впадину. Огромный состав шел в темноту, пыхтя и скрипя. Под уклон съехали благополучно, но при вытягивании на подъём у станции «Томск-I» оборвались подрубленные кем-то тяжи у головного вагона, и весь состав, гудя, понёсся обратно на «Томск-II», откуда выходили в это время броневики.
Столкновения, к счастью, не произошло – наш эшелон в гору не вкатился, а снова понёсся вниз, пока не остановился на дне выемки. Все мы повыскакивали на ходу в сугробы снега. Я видел, как сам генерал Пепеляев, кувыркаясь зайцем, летел в туче снежной пыли под откос. Мы стояли в темноте, без паровоза, сзади шла стрельба – там тёмный люд грабил эшелоны. Наконец мы добыли паровоз, вытянули состав, обрезали на версту провода телеграфа и уехали на станцию «Тайга». Томск выскочил из наших рук сам собой…
Теперь, когда пишутся эти мемуары, на минувшее можно смотреть спокойно. А тогда события рвали, жгли сознание: Красная армия побеждала без усилий! Белая же разваливалась по древней формуле: «Сила, лишённая разума, рушится от собственной тяжести»[10].
На станции «Тайга» я нашёл наш отряд, но с ним не пошёл, а двинулся на восток по железной дороге. Генерал Пепеляев, добравшись до Мариинска, сформировал небольшой полевой штаб, с которым и ушёл в тайгу. Дрался наряду со всеми, не щадил себя, но успехов не имел. Потом заболел сыпняком, свалился и был вывезен своими людьми, распустившими слух о его смерти.
Не ушёл далеко и остальной его штат. Вся комендатура станций до Красноярска уже находилась в руках польских войск, и движением распоряжался полковник Румша. Вперёд шли лишь польские составы. А беженские эшелоны замерзали, оставались на месте. Помню такую картину, увиденную мною на одной из станций: под тёмным небом, при свете свечек беженцы вытаскивали из вагонов и разбирали вещи. Везде валялись телефонные аппараты, чемоданы, снаряды, несгораемые шкафы. Один такой сейф тащил со станции на санках хозяйственный мужичок. Шкаф был зелёный, московской фирмы «Мёллер». Как он попал сюда, в глухую Сибирь?
Я спросил мужичка:
— А зачем он тебе?
Тот потолкал его валенком:
— Хорош больно для рубах будет!
Крепко ругал я себя, что легкомысленно оторвался от саней, – в такой обстановке конь надёжнее паровоза! И пошёл я по путям пешком, подсаживаясь, где можно, на поезд.
По линии железной дороги шло много разной публики. Особенно тяжело было смотреть на женщин с детьми, они гибли как мухи.
Между прочим, деморализовались и польские войска. Первый польский полк возле станции «Тайга» имел схватку с частями Красной армии, потерпел неудачу и, бросив эшелоны, отходил пеше. Солдаты, часто без оружия, в отличных своих шинелях, брели вдоль линии и заходили в теплушки к своим землякам, чтобы поесть и погреться, деморализуя их и видом своим, и разговорами. На все приказания присоединиться к своим они отвечали, что «сбирка в Красноярску», и брели дальше. В конце концов на станции Клюквенная частям Красной армии сдалась вся польская дивизия, тогда как красных могло быть до пятисот человек[11]. Впрочем, за точность не отвечаю.
И без того тревожная атмосфера человеческого муравейника, бредущего по линии, ещё более накалялась от рассказов о захвате эшелонов Красной армией.
На станции «Тайга» перестрелял свою многочисленную семью и застрелился сам какой-то полковник.
Самоубийства происходили десятками. Сама мысль о возможности кончить все эти бесконечные и невероятные передряги пулей в висок и проверяющее прикосновение к пистолету в кармане вызывали успокоение – покой был близок и надёжен.
На одной из станций, когда мы ещё не покинули пепеляевский эшелон, я встретил прогуливавшегося полковника Кононова и подошёл к нему:
— Скажите, господин полковник, как обстоит дело на востоке?
— Отлично! Отлично! Я только что говорил по прямому проводу с генералом Зиневичем. С Красноярском. Он уже сдал всю власть земству и работает с ним в полном контакте. Полная поддержка общественности и кооперации. В армии – прекрасное настроение…
— А в Иркутске?
Об Иркутске уже ходили тревожные слухи.
— Да, там были выступления. Но теперь и там у власти земство, войсками командует штабс-капитан Калашников. И в Иркутске всё прекрасно!
Я видел полковника Кононова и позднее, когда он в валенках, пешком брёл на восток.
Кажется, так и не дошёл.
А когда я добрался наконец до Красноярска, то первое, что увидел в местной газете, – объявление о заседании в этот день Совета рабочих и солдатских депутатов…
Коммунисты обгоняли нас…
глава восьмая
МИР ГЕНЕРАЛА ЗИНЕВИЧА. ПОД КРАСНОЯРСКОМ. НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО
Итак, за нами шла Красная армия, энергично врывавшаяся в сытую Сибирь. Все дело было в хлебе. И действительно, 5-я армия Тухачевского, достигнув Новониколаевска, дальше не пошла. За нами следовала одна лишь дивизия Азина[12], которую нетрудно было бы при желании задержать.
Но было не до того.
Омская армия оказалась вне операционных возможностей. Она попала в такое же положение, в каком оказалась Красная армия в 1918 году на Транссибе, разорванном восстанием чехов на части. Кроме того, в разобщённых городах энергично вела работу легальная при власти Колчака организация. Это были эсеры, связанные со штабом чешского генерала Гайды и имевшие агентуру в штабе Пепеляева. Таков был полковник Ивакин в Новосибирске; так же, как мы видели, в Томске действовали Зеленский и Габрилович; в Красноярске оказался генерал Зиневич, начальник 1-й дивизии армии Пепеляева. Начштарма полковник Кононов также представлял собой определённую фигуру. В Иркутске выступил штабс-капитан Калашников, бывший начальник осведомительного отдела при штабе Сибирской армии. Комендантом Иркутска после «демократического» переворота стал поручик Кошкадамов – бывший редактор газеты «Голос Сибирской армии». Сотрудниками её были и поручики Никольский и Галкин.
Итак, в остатках разделённой чешскими эшелонами бывшей омской армии, в её гарнизонах в разных городах велась энергичная работа по пропаганде «демократического мира». Энергично действовал в Красноярске и генерал Зиневич, предъявляя «диктатору Колчаку» всевозможные обвинения.
Но едва ли сам Зиневич чувствовал себя спокойно: Красная армия подходила всё ближе. Между Зиневичем в Красноярске и представителями Красной армии в Мариинске, в Ачинске и других городах шли переговоры по прямому проводу. Одновременно поддерживались отношения и с партизаном Щетинкиным[13], жена которого была членом Красноярского Совета депутатов.
Красной армии победа сама падала, как спелое яблоко, прямо в руки – ей надо было только выжидать, храня собственную боеспособность, чтобы в конце концов явиться хозяином ситуации.
Я попал в Красноярск 5 января 1920 года и, на счастье, встретил там на улице одного из офицеров нашего отряда. Вместе с ним отправились в штаб генерала Зиневича.
Сам Зиневич нас не принял, он всё время был занят на проводе. Нас принял новый начальник его штаба, какой-то капитан. Старый начальник, полковник Турбин, которого я знал по Перми, ушёл.
На просьбу выдать пулемёты нашему отряду мы услыхали:
— Оружие? Зачем? Мы заключаем мир, и вы делайте то же!
В городе было тревожно, и только один человек владел общим вниманием. Это был Евгений Колосов, студент, член Учредительного собрания, журналист острого стиля. Этот эсер и ярый демагог, можно сказать, овладел генералом Зиневичем.
Было ясно, что при таких обстоятельствах вполне возможно столкновение между гарнизоном Красноярска и отступающими частями. И мы, я и офицер, бросились на запад, чтобы предупредить своих.
Ночевали мы в огромном селе Заведеево, где встретили своих. В доме, где остановились, собрались начальники многих отрядов.
Мы сделали доклад. Полковник Луцков, начальник осведарма-2, обещал мне немедленно выехать к командующему армией генералу Войцеховскому и поставить его в известность о ситуации в Красноярске. Сами же начальники решили идти в обход города, к селу Есаулово, верстах в двадцати севернее.
Слушал полковник Луцков меня как-то очень невнимательно, словно думал о чём-то своём. И очень скоро стало известно, что он переменил свои позиции: в ту же ночь переметнулся к нашим противникам.
Наутро мы выступили: впереди – Иркутская дивизия, за ней другие отряды. В этот же день на Красноярск повели наступление ижевцы и отряд генерала Макри. Сначала всё шло успешно, стрелки ворвались в город, но затем в тыл частям выдвинулся почему-то польский бронепоезд.
Цепи занервничали и откатились. Красноярцы, обладавшие сильной артиллерией и пулемётами, ещё ночью разместили их на сопках над дорогами, по которым двигались обозы и части, беженцы и больные, и открыли бешеный огонь. Те бросились врассыпную.
Одновременно подошёл к Красноярску и ворвался туда партизан Щетинкин. В конце концов Красноярск стал огромным лагерем, где одни, ранее заключившие мир, сажали в заключение других, не успевших сделать это. Пострадали многие стойкие офицеры.
Красноярск стал той скалой, о которую расшиблась Белая армия. Не все прошли мимо него, а те, кто прошёл, организовали новую армию, каппелевскую.
Генерал Каппель бросил свой поезд перед самым Красноярском, сел на коня и с тридцатью всадниками обогнул под обстрелом несчастный город. Лишь за Красноярском нашёл он свои части.
«Свои части»! К сожалению, частей-то уже не было. Мимо Красноярска текла разобщённая, пёстрая масса, не жалевшая ни усилий, ни своих жизней, чтобы уйти на восток. И лишь наткнувшись на препятствие под Канском, где гарнизон пытался было задержать бегущих, она снова стала сбиваться в некое подобие армии.
7 января было Рождество, добрый зимний праздник. Эту ночь мы провели в селе Балай, в трёх верстах от станции того же имени. Я с двумя унтер-офицерами – А. Н. Качиным и А. И. Огневым – поехал туда, чтобы сориентироваться в обстановке. Чёрная ночь, белый снег… Печальное Рождество!
Станцию – это была новость! – охранял батальон латышей, уезжавших к себе на родину из России[14]. Крепкие, медлительные люди, одетые в невиданную нами форму, сидели в аппаратной. А мы, как-никак, а всё же хозяева, явились из ночи, занесённые снегом, с ружьями в руках, чтобы узнать, что же происходит в нашем доме.
А где же «наши»? А вон один из них. С алыми пятнами на лице, с лихорадочно блестящими глазами, сидел тут начальник этой Богом забытой станции, жадно ловя по селектору информацию об избиении в Красноярске.
Я долго бродил по латышским благоустроенным вагонам, разыскивая коменданта. Нашёл огромного роста человека, который заявил, что знать ничего не знает, что их, латышей, цель – уехать как можно скорей на родину и не мешаться в чужие дела.
Я вернулся в аппаратную. Оба моих спутника бросились ко мне:
— Начальник станции – большевик. Разрешите взять его. Говорит: никуда не уйдёте вы, Канска не пройдёте…
Нисколько не сомневаясь, что они хотели сделать с этим увлечённым мечтой о мире человеком, я увёл своих унтер-офицеров на платформу станции. Латыши увели железнодорожника. В это время подходил чешский эшелон.
В классных вагонах освещены были все окна, оттуда доносились пение, женский смех: чехи встречали Рождество!
Я попросил вызвать коменданта поезда. Ко мне вышел плотный поручик и на плохом русском языке выразил неудовольствие, что я явился к нему с винтовкой.
— Я должен предупредить вас, – сказал он очень строго, безбожно путая ударения. – Между нами и красными заключено соглашение, по которому никакие вооружённые банды, ни белые, ни красные, не должны допускаться к железной дороге! Я должен был бы разоружить вас и ваших солдат. Уходите!
Впервые причисленный к «бандам», горячо протестуя против этого, я всё-таки попытался узнать, что же происходит в Красноярске. Справедливы ли слухи, что генерал Войцеховский занял город?
— Я этого не знаю, – ответил, смягчившись, поручик. – С нами едет русский полковник Генерального штаба… Он вас сейчас проинформирует…
В полосе света из отодвинутой двери в купе, в табачном дыму, в звоне шпор, в женском смехе передо мной предстала упитанная фигура полковника с серебряными погонами.
С полупоклоном, не подавая руки, бархатным баритоном, усиленно ковыряя спичкой в зубах, он спросил, что мне, собственно, угодно?
— Я, господин полковник, хотел бы узнать обстановку в Красноярске. Занят город генералом Войцеховским или нет?
— Н-не думаю! – светским тоном ответил полковник. – Да и скажите, к чему генералу Войцеховскому занимать Красноярск, а? Нет, н-не думаю.
Я ответил, что меня интересует только то, что он, господин полковник, знает, а не то, что он думает.
Полковник поднял высоко брови и качнул плечами. А в купе звенел смех, мигал свет, и женским густым голосом пел граммофон под гулкую гитару:
А теперь приедешь к «Яру»[15] –
Хор цыганок не поёт,
Соколовского гитара…
Можно было сойти с ума! Я выскочил из вагона, меня ждали озябшие унтер-офицеры. Мы побежали к лошадям. Там на нашего возницу напали какие-то железнодорожники, обвиняли его в контрреволюции и требовали выдачи лошадей как «народного достояния».
Мы прогнали их прикладами. А когда выскакивали из станционного посёлка, нам вслед хлопали выстрелы.
При свечке, у тускло блестевшего самовара делал я печальный и скудный доклад нашему командиру, войсковому старшине Енборисову.
А наутро было Рождество, звонили в церкви. К нам в избу явился «с визитом» в парадной форме, с орденами капитан Смыслин, с ним – другие офицеры. Два наших отрядных священника в местной церкви отслужили обедню, и мы слушали чудесную древнюю песнь о том, что в эту ночь «воссиял миру свет разума».
После обедни поехали дальше, взыскуя некий базис, на который можно было бы опереться.
[1] Пругавин Александр Степанович (1850 – 1920) – народник со стажем. Был отчислен из московской Петровской земледельческой и лесной академии за участие в студенческих волнениях, привлекался по процессу «нечаевцев». В апреле 1871 года выслан под надзор полиции в Архангельскую губернию. В 1879 году был освобожден от полицейского надзора и переехал в Санкт-Петербург. В 1917 году уехал в Уфу. Сотрудничал с белым движением в Сибири, работал в колчаковских газетах. В марте 1920 года был арестован большевиками, умер в Красноярской тюрьме от сыпного тифа. Недавно мы переиздали сборник Пругавина «Раскол внизу и раскол вверху. Очерки современного сектантства», спрашивайте в независимых книжных!
[2] Ухтомский Александр Алексеевич (1872 – 1937) – архиепископ Уфимский и Мензелинский. В ноябре 1918 в Томске был избран членом Высшего временного церковного управления Сибири, с ноября 1918 по октябрь 1919 возглавлял духовенство 3-й армии Колчака. Многие годы провел в тюремном заключении. Расстрелян в 1937 году. Являлся автором термина «истинно православные христиане» и одним из вдохновителей одноименного движения. В 1981 г. канонизирован РЦПЗ.
[3] Дружины Святого Креста – добровольческие формирования в составе Русской армии Колчака. В виде отдельного формирования существовали только в 1919 году. Интересно, что в уставе «крестоносцев» кроме обычных наказаний за обычные провинности было прописано отлучение от церкви – «Нарушающие обет и правила подвергаются, кроме обычных дисциплинарных взысканий, исключению из дружин Св. Креста, а в особо тяжких случаях и отлучению от церкви, как предатели дела Христова». Всего в дружины входили около шести тысяч человек.
[4] Мельников Фёдор Евфимьевич (1874 – 1960) – известный старообрядческий писатель и историк белокриницкого согласия. В конце 1917 года был вынужден уехать из Москвы в Барнаул, где был выдвинут депутатом в Сибирскую областную думу от Исполнительного комитета старообрядцев. Был инициатором издания барнаульского журнала «Сибирский старообрядец». После свержения Колчака был вынужден скрываться в таёжных скитах Алтая, в которых печатал антибольшевистские листовки.
[5] Лембич Мечислав Станиславович (1890 – 1932) – сын потомственного дворянина, нефтяного деятеля в г. Грозном. Журналист (псевд. Ветерок Залётный; Залётный, В.; Олаф), начинал свою профессиональную деятельность репортёром в московских газетах «Русское слово» и «Голос Москвы». Основатель крупнейшего печатного дела в Китае. Наряду с «Шанхайской зарей» издавал газеты «Заря» в Харбине (1920-43) и «Наша заря» в Тяньцзине (1928-1939).
[6] Ивакин Аркадий Васильевич (1893 – 1919) во время Великой войны дослужился до капитана. Примкнул к белым и возглавил 2-й Новониколаевский (2-й Барабинский) полк. Главным сражением для него стал бой у станции «Байкал», после которого Ивакина произвели в подполковники, а потом – в полковники. Под предводительством Ивакина 2-й Барабинский полк восстал против белой власти, провозгласив «мир с большевиками». В ночь на 7 декабря 1919 года Ивакин вывел части гарнизона в город. Барабинский полк, часть Новониколаевского, офицерская инструкторская школа, школа топографов пошли брать власть. «Барабинцы» успели захватить «военный городок», комендатуру, здание Управления воинского начальника, почту, телеграф, телефон. Захватили тюрьму и освободили заключённых. Восстание было жестоко подавлено 5-й польской дивизией.
[7] Енборисов Гавриил Васильевич (1858 – 1946) летом 1918 года служил начальником Военного контроля и комендантом штаба обороны, начальником отдела Государственной охраны 2-го округа. Летом 1919 года поступил рядовым в добровольческую Дружину Святого Креста и Зелёного Знамени в Омске и был назначен начальником агитационно-вербовочного отдела в Семипалатинске, где сформировал добровольческий отряд Дружины Святого Креста. С этим отрядом прошел весь Великий сибирский ледяной поход. С 22 марта 1920 года служил дежурным генералом 3-го стрелкового корпуса и при этом одновременно был командиром Добровольческого егерского отряда. С 21 апреля – помощник начальника личной охраны атамана генерала Г. М. Семенова. В 1920 году эмигрировал в Харбин.
[8] Чалдонами называли первых русских поселенцев в Сибири.
[9] В самом «Русском голосе» упоминался не В. П., а Н. П. Зеленский.
[10] Цитата, приписываемая Горацию.
[11] 10 января 1920 года большая часть Пятой польской дивизии сдалась наступающей Красной армии возле станции «Клюквенная», оказавшись в лагерях военнопленных и тюрьмах. Основная роль 5-й польской дивизии состояла в охране Транссиба от нападений красных партизан и в подавлении антиколчаковских крестьянских выступлений.
[12] 28-я дивизия под командованием Владимира Мартиновича Азина, известная как «Железная».
[13] Щетинкин Петр Ефимович (1885 – 1927) после мятежа чехословацкого корпуса участвовал в установлении советской власти в Ачинске. В конце мая 1918 года стал членом военно-революционной тройки Ачинского уездного исполкома по руководству борьбой против белочехов. В декабре 1918 года в Лапшихе организовал партизанский отряд, в мае – августе 1921 участвовал в борьбе с вторгшейся в Забайкалье Азиатской дивизией генерал-лейтенанта Р. Ф. Унгерн-Штернберга.
[14] Имеется в виду сформированный по приказу военного министра генерала Галкина Латышский батальон. В него вошли, кроме бывших стрелков, латыши – колонисты и беженцы.
[15] Соколовский хор у Яра…» – популярный цыганский романс. «Яр» – известнейший ресторан, в котором бывали члены императорской фамилии, Пржевальский, Чехов, Куприн, Горький, Леонид Андреев, Бальмонт, Шаляпин, Распутин. Существовал ресторан до 1918 года.