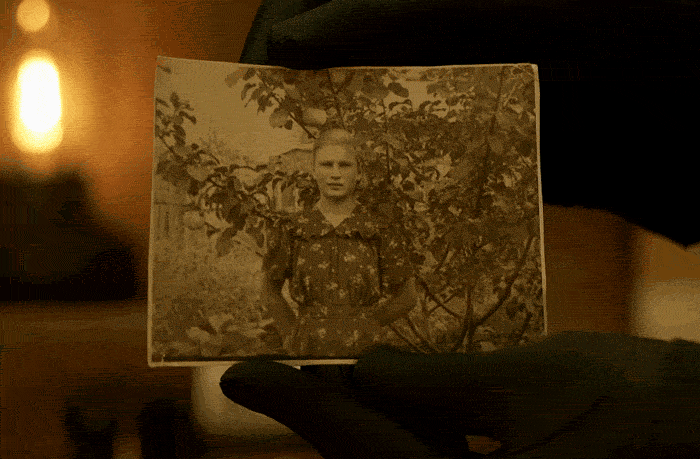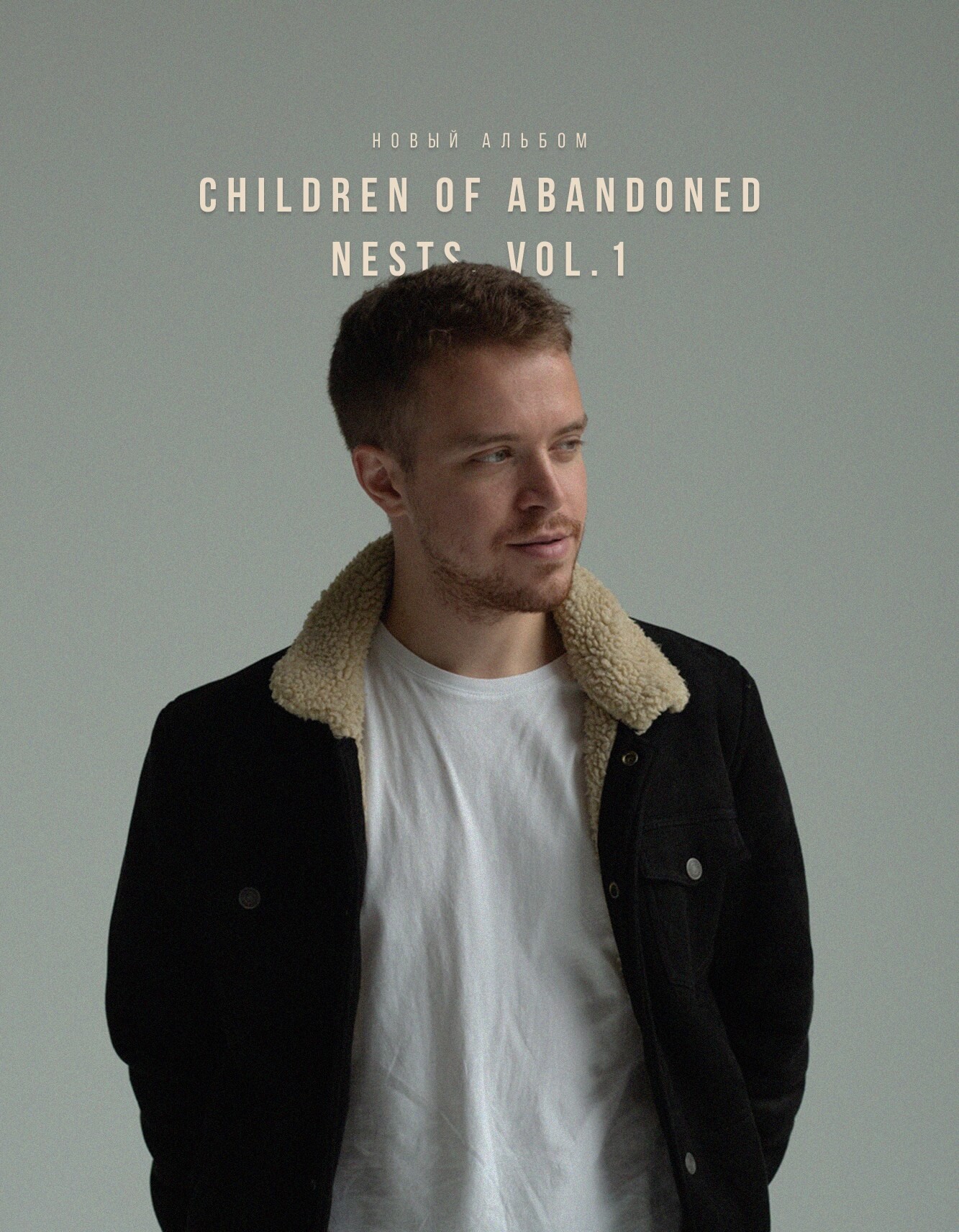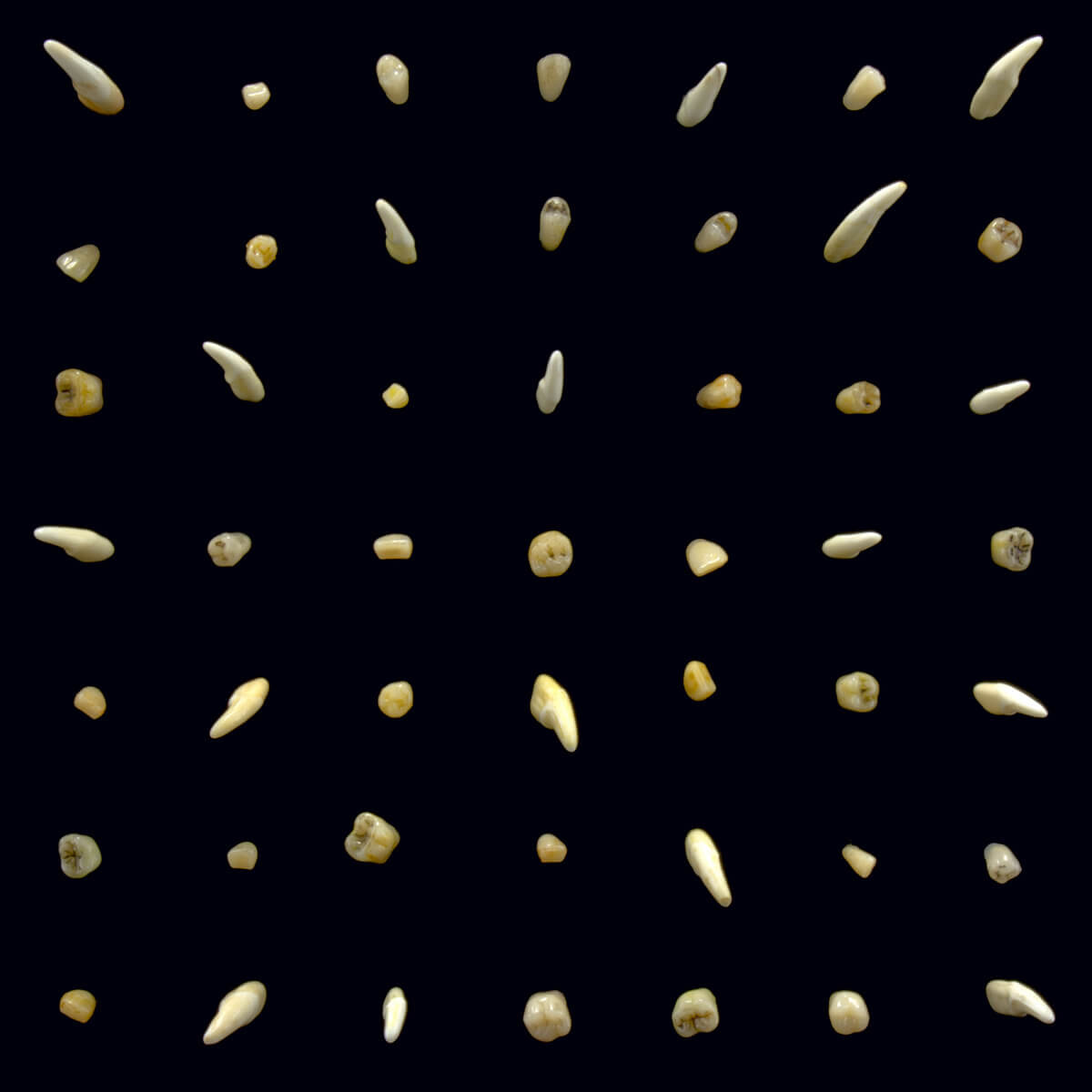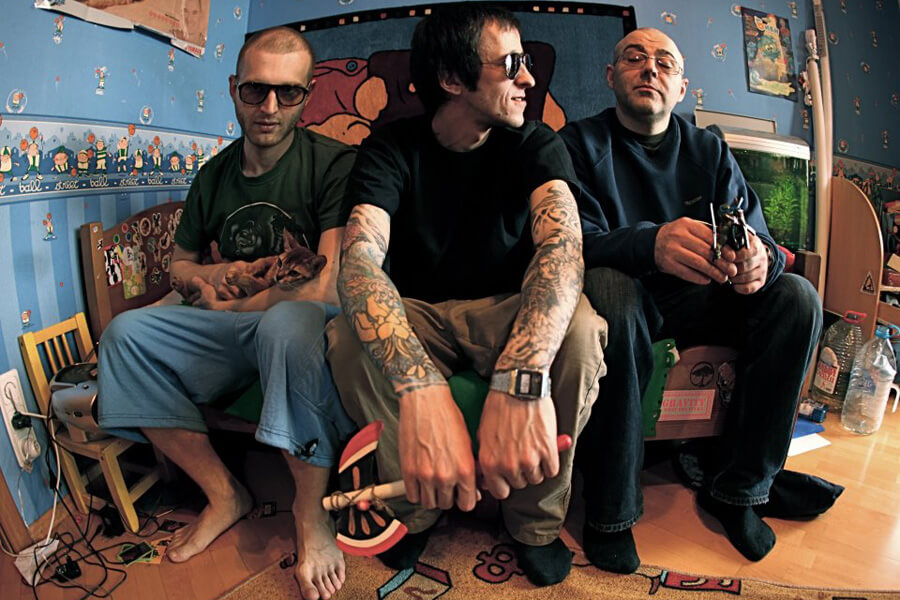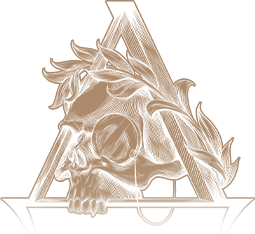О новой книге Вл. Варавы «Седьмой день Сизифа»
Книги Владимира Варавы имеют ярко выраженный пафос философской героики. Пожалуй, редко у какого современного автора мы встретим такое фанатическое отношение к философии как таковой, такое пристальное внимание к статусу (онтологическому, этическому, социальному) философа в мире. Н.А. Бердяев когда-то отметил, что философ ничем не обеспечен, это самое социально незащищенное существо. Варава продолжает Бердяева и прописывает положение философа в мире более объемно – указывает на важнейшую роль философа в мире: «Основной вопрос философии, будучи исключительно философским вопросом, в то же время есть основной жизненный вопрос, поскольку жизнь организована таким образом, что в ней главным действующим лицом является не просто человек, но человек философствующий»[1].
Это цитата из книги Вл. Варавы «Адвокат философии», вышедшей еще в 2014 году. В новой книге Вл. Варавы «Седьмой день Сизифа», хотя она и не посвящена строго рассмотрению роли философа, этот обозначенный пафос философской героики сохраняется, хотя в целом рассматривается уже не специфическое положение философа в мире, но положение человека вообще, которое, впрочем, невозможно вынести без философской подготовки. В том и состоит главная задача этой книги, собственно этическая задача, а именно – подготовить человека к невыносимости бытия, снабдить его философскими орудиями.
Если в «Адвокате философии» Варава выступал в роли защиты, то теперь можно сказать, что он идет в наступление, теперь он в статусе обвинителя. Теперь открыто, как на заседании суда, объявляются враги философии: «Мишень философии – глупость, невежество, лицемерие, подлость, трусость, конформизм, консерватизм, косность, идолопоклонство, раболепие, фобии, предрассудки, суеверия, мнения. Авторитеты, власть, идолы, кумиры, устои, традиции, законы, «истины», «боги»… иначе все то, что держит человека в состоянии «спячки», нежелании смотреть правде в глаза, искать истину и подлинный смысл»[2]. Нетрудно заметить, что из этого перечня врагов философии следует понимание ее не просто как теоретической дисциплины в ряду других дисциплин, не просто интеллектуального упражнения и теоретических штудий, но как совершенно особенной области человеческой деятельности, которая носит, прежде всего, нравственный, а значит деятельный характер. Вараве, как когда-то Ницше, претит образ философа как закрытого в своем архивном мирке специалиста, как профессора во фраке, поскольку для такого «философа» чужда добродетель небезопасного положения, чужд риск, а это и есть одно из условий для подлинной философии – раненность бытием.
В Сизифе Варава проделывает своего рода ревизию русского экзистенциализма, или, скорее, экзистенциализма как такового. Именно поэтому философ обращается к рассмотрению литературы, от которой есть чувство, «будто тебя смертельно ранили, повредив в духовном организме что-то важное, отвечающее всегда за психологическую безопасность существования…»[3]. Такова русская литература, которая определила экзистенциализм и как философское, и как литературное направление. Варава констатирует: «Можно сказать, что русская литература – это какое-то невероятно пронзительное и достоверное откровение о бессмысленности»[4]. Русским писателям, пишет Варава, нечего терять. Поэтому они могут свободно говорить о действительности самые ужасные вещи. Они контрабандой протаскивают в действительность правду о ней. Не о русской социальной действительности, как мог бы подумать современный наш либерал, не способный к философскому уровню восприятия, но о действительности как таковой, которая не делится на русскую или западную. И в то же время именно в России, в этой «стране философов», острее и больнее ощущается та самая невыносимость бытия, о которой писали Чехов, Достоевский, Толстой, Андрей Платонов, Леонид Леонов и т.д. «В том-то все и дело, чтобы сверить, соотнести свои собственные ощущения и переживания с теми, о которых говорят они (т.е. русские литературы. – прим. АКЛ) на своих лучших страницах»[5]. Чтения русской литературы, таким образом, обозначается Варавой как духовное, или философское, упражнение (если применять термин П. Адо).
Таковы тексты Андрея Платонова, которому в Сизифе посвящена целая глава. Рассуждения Платонова о смысле и истине, пишет Варава, «на бесконечность превышают любую академическую серость». Эти слова автора можно смело отнести и к его собственным книгам, таким как «Псалтирь русского философа», или «Неведомый бог философии». Эти книги не являются академическими исследованиями (хотя автор, как профессор и доктор наук, признанный в мире специалист по танатологии, этике и истории русской философии, в совершенстве владеет академическими техниками), это, скорее, философские упражнения, напутствия человеку, который вступает на философский путь и решается применить к миру самые радикальные средства – мыслить о нем до конца.
Сам мир, как и все в мире, очевидно, не желает быть осмысленным, продуманным до конца. Поэтому вопрос о смысле мира изначально ставит человека в оппозицию к миру. Однако мир вполне осмысляем, и это доказывается тем, что люди преспокойно живут в мире вот уже тысячи лет: «В умении наделять нечто смыслом усматривается основная метафизическая способность человека, отличающая его от всех остальных видов сущего» — пишет Варава[6]. При этом наделить мир смыслом не то же самое, что осмыслить мир.
В книге Вл. Варавы есть страшная, но философски безупречная и верная констатация: бессмысленность жизни больше никого не заставляет проститься с жизнью. Иными словами, пространство, в котором герои Достоевского или Камю совершают «философский суицид», нами давно и безвозвратно потеряно, как и сами эти герои. Жизнь не имеет смысла, но — «Что ж с того!? – спрашивает Варава. – Это никого не пугает и не ужасает; люди не перестают жить от того, что сама жизнь не имеет смысла. Никто не знает никакого смысла, но все продолжают жить»[7].
Философ говорит «о блаженной бессмысленности нашего существования»[8]. Эту бессмыслицу философия сегодня должна реабилитировать. В прошлом от этой бессмыслицы умирали, но не в наше время. Толстой, например, именно как философ принял венец «мученичества от самого тягостного и непостижимого в мире, от его бессмысленности»[9]. Но со времени Толстого произошло много, в том числе подмена понятий, подмена смыслов, и главное – подмена бессмысленности! Смысл, о котором мучились Толстой, Достоевский, Ницше и Кьеркегор, современность заменила смыслом логическим, который можно вычитать в учебнике по «логике» на стр. 13–19, заучить и рассказать на семинаре по философии в университете, чтобы получить оценку. И бессмысленность, от которой страдали Толстой с Камю, также подменили на абстрактный «философский» термин, который к самому бытию не имеет отношения, не работает в отношении него. Поэтому-то и надо реабилитировать бессмысленность, прежде чем говорить о настоящем, живом смысле и его реабилитации: «Вся духовная (или психологическая), метафизическая и прочая энергия творчества направлена на одно – на борьбу с бессмыслицей. Но прежде чем бороться с ней, ее нужно было заметить, опознать и испугаться, поразившись ее нечеловеческому смыслу, идущему вразрез со всеми привычными устоями существования»[10]. Потому-то философия и опасна так для этих привычных устоев существования, что она их ломает – не ради страсти разрушать, но для конкретной цели: разломать эти устои, чтобы человек смог разглядеть за ними беспочвенность своего существования, распознать его бессмысленность.
Отсюда философ постулирует задачу: «Сегодня философия обязана реабилитировать бессмыслицу, чтобы избавиться наконец от «ига смысла». Но не для «бессмысленного существования», а как раз для более осмысленного, которое и может наступить в случае признания, что все существующие смыслы есть лишь культурные, то есть конвенциональные образования, нужные для того, чтобы человек не умер от истины» (с. 8).
Фигура Сизифа здесь, как следует уже из названия, центральна. «Профанация мифа о Сизифе, — пишет Вл. Варава, — возможно наиболее кощунственная по отношению к человеческому уделу, поскольку зафиксированный здесь трагизм начисто стирается в существующих трактовках» (с. 26). Варава предлагает остановиться на личности Сизифа. Это позволит деконструировать профанирующие этот миф трактовки. Первая из этих трактовок называется моралистической, согласно которой наказан виновный. Сизиф наказывается бессмыслицей, а тем самым предполагается, что он как бы выдернут, исторгнут из мира смысла. Сизиф побеждает (обманывает) смерть, и за это наказывается бессмысленностью. Сизиф здесь абстрактен, пишет Варава, как Кай в известном силлогизме про смертность (Все люди смертны, Кай человек, следовательно, Кай смертен). Но как Толстой ломает эту логику в «Смерти Ивана Ильича», так и Варава ломает эту логику, указывая на то, что смертен не один Кай, но конкретно я, и соответственно в бессмысленность погружен не просто какой-то мифический Сизиф, но конкретный человек – я! «Весь ужас начинается тогда, когда историю Кая и Сизифа мы воспринимаем в первом лице»[11].
Тогда мы понимаем, что оказаться у истоков своего бытия – значит оказаться у разбитого корыта. У бездны. Философ – тот, «кто будет смотреть в этот жуткий омут, где властвуют силы, коим нет места в обыденном порядке сущего»[12]. В обыденном порядке сущего все смыслы придуманы или найдены, мы окружены ими. Но философ ступает туда, где ничего не дано и не задано, где нет карт и нет зова. Там все придуманные смыслы блекнут, и человек оказывается «у разбитого корыта, у самих истоков своего бытия». Быть у истоков бытия – значит оказаться у разбитого корыта. Истина делает человека мертвым, постулирует философ. Смерть и свобода сопрягаются, превращаясь в страшный философский концепт «смерть-свобода». Или в триаду истина-смерть-свобода. Недаром в книге красной нитью проходит высказывание Ницше: «Вы хотите истины? А почему не лжи?!». Вараве удалось это высказывание не просто полноценно расшифровать, но концептуализировать. Владимир Варава, как признанный танатолог, т.е. «философ смерти», если посмотреть на него с точки зрения его же философии, вполне последовательно оказывается «философом свободы», что, по сути, одно и то же: чем бы ни занимался философ, он занимается смертью (можно сказать «о чем бы он ни мыслил», но это несколько сужает функциональные возможности философа как персонажа). Транскрибируем: чем бы ни занимался философ, он занимается свободой. Смертью и свободой. Он свидетель неизменного претворения жизни в смерть, смысла в бессмысленность (и иногда обратно), судьбу/необходимость в свободу.
На фоне тотальной суеты жизни философ превращает свою судьбу в свою свободу.
На фоне тотальной бессмысленности он обретает смысл, превращая «смерть вообще» в свою смерть, смерть конкретного человека, тем самым возвращая изгнанную людьми смерть обратно в человеческий мир.
Философ на фоне тотального умертвия, мертвенности возвращает смерть, водит с нею дружбу и потому живет живой жизнью. Живет при смерти, чтобы не умереть при жизни. Таков посыл новой книги Владимира Варавы.
Что это значит, спросит внешний критик. Что конкретно делает философ, чем он конкретно занимается? И Варава отвечает: «Философ вопрошает»[13]. Вопрошает о том, о чем обыкновенно люди не вопрошают, поскольку все смысли им уже даны. Но у философа есть сильнейшая интуиция бессмысленности мира, поэтому ему нечего терять, и он говорит человеку все как есть, без прикрас. Варава говорит о ценности философского вопрошания, которое «в силу косной человеческой природы постоянно гаснет, растворяясь в потоке ничтожных злободневных нужд и желаний, в агонии политического фарса и пустоты культурных проектов»[14]. К этому, пожалуй, просто нечего добавить.
Есть одна особенность философии Владимира Варавы, которую я бы отметил как неоднозначную. Процитирую один фрагмент из книги, чтобы прояснить эту особенность: «…Философия не умрет, поскольку не умрет человек. Он не исчезнет, не превратиться в нечеловека, не истребиться в ядерной войне или экологической катастрофе. Все это плоды недомыслия. Человек обречен на муку и радость бытия. Вечный человек и вечная философия»[15]. С одной стороны, такая позиция привлекает своим «оптимизмом» (назовем это так), поскольку устраняет все судорожные страхи современного человечества о ядерной катастрофе, или столкновении с астероидом, или восстании машин, или нападении саламандр и т.д. и т.п. Помню, как однажды на каком-то ток-шоу на Первом канале при обсуждении фильма Ларса фон Триера «Меланхолия» Владимира Вараву спросили, что бы он стал делать, если бы узнал, что завтра планета столкнется в астероидом и все погибнут. Варава ответил, что он продолжил бы жить как жил. Нет сомнений, что это глубоко философский ответ, проистекающий из философской же позиции, из философской жизни. Можно назвать это новым сократизмом, если только сократизм (в данном случае можно сказать и стоицизм) вообще бывает новым. Со стороны может показаться, что Владимир Варава как будто бы совсем не чувствует угрозы самому человеку в наше время, не видит, что само понятие человека стремительно сегодня трансформируется вместе с трансформацией самого мира. Как писал Фукуяма, наше будущее может стать постчеловеческим, и соответственно в этом постчеловеческом будущем, т.е. будущем без человека (как существа с полом, с национальностью, с любовью страстями, с философскими вопросами!), не будет места и философии с ее проклятыми вопросами. Варава будто бы намеренно проходит мимо одного важного горизонта в нашем настоящем. На этом горизонте – война. Война, которая требует, прежде всего, философских компетенций – тех самых, о которых и пишет Варава. Это не будет война американцев против сербов, русских против китайцев, это не будет война народа с народом или государства с государством. Это будет (и уже есть) война против самого человека как такового, которого хотят лишить человеческого, хотят лишить его того самого статуса «вечного человека», который в своем онтологическом статусе повенчан с вечной философией. Соответственно это будет война одновременно и против философии.
Утверждая вечный статус философии, ее самоценность для человека, Варава уже одним этим занял позицию уже не просто адвоката философии (и адвоката человека) в здании суда, но позицию активного борца за человека и за философию на поле боя. Ведь Варава сам обозначил мишени философии, среди которых «истины» и «божки». А между тем те, кто стремятся выключить человека из бытия, изъять из него его вечность и его тайну, заковав в генно-инженерные и технологические клетки, скопировав его память и «душу» на электронные носители и тем самым обессмертив, т.е. сделав человека «вечным», но вовсе не в том же самом смысле, о каком говорит Варава, — они тоже поклоняются одному из тех «божков», о которых пишет Варава в своей книге.
Поэтому нельзя сказать, что Владимир Варава не замечает этой грядущей великой войны за человека, которая уже идет и не видит поля боя и расстановку сил на нем. В беседе с Анастасией Гачевой на радио «Аврора» Варава назвал антропологическую ситуацию современности «принципиально новой морально-психологической и экзистенциальной ситуацией», которая идет под тэгом «усталость быть человеком». В этой ситуации человек «готов продать свое человеческое звание»[16]. И вот против этого и направлена новая книга Владимира Варавы, как и вся его философия, — против того, чтобы человек «продавал» свой антропологический статус, и конкретно против тех, кто этот статус желает у него «купить».
Есть философский позитив в книге Варавы, философский заряд отношения к миру, который один и позволяет оставаться в мире, действовать в нем в качестве человека и философа, принимая всю его сложность и неоднозначность, таинственность: «Все-таки есть в мире присутствие тайны, напряженное и трагическое присутствие, доводящее до исступления и отчаяния своей вечной нераскрытостью и нераскрываемостью»[17]. Нераскрытость тайны связано с ее нераскрываемостью, однако в своем существе это все-таки разные для человека характеристики тайны. Варава выстраивает (не только в этой новой своей книге, но по сути дело вообще в своем философском творчестве) своего рода аксиологию тайны. Вечная нераскрываемость тайны мира должно отрицать нераскрытость тайны в настоящий момент. Однако человек, вернее мыслящий человек, который один и является подлинным героем бытия, не смотря на вечную нераскрываемость тайны все равно стремится эту тайну разгадывать. Этот бесконечный и, казалось бы, бессмысленный процесс, который не имеет окончания, был разгадан Достоевским, который в письме к брату сказал, что для того, чтобы быть человеком, следует разгадывать загадку по имени «человек». Разгадывание загадки «Человек», стремление раскрыть нераскрытую и нераскрываемую тайну мира – это тот самый акт, который позволяет человеку состояться в качестве человека. В этом его сокровенный имплицитный смысл, которым мы обладаем, осуществляя акт разгадывания, или – акт философствования.
[1] Варава В.В. Адвокат философии. – М.: Этерна, 2014. С. 20
[2] Варава В.В. Седьмой день Сизифа. – М.: Алгоритм, 2020. С. 96
[3] Там же. С. 74
[4] Там же. С. 20
[5] Там же. С. 21
[6] Там же. С. 7
[7] Там же. С. 9
[8] Там же. С. 8
[9] Там же. С. 15
[10] Там же. С. 22
[11] Там же. С. 29
[12] Там же. С. 23
[13] Там же. С. 102
[14] Там же. С. 88
[15] Там же. С. 103
[17] Варава В.В. Седьмой день Сизифа. – М.: Алгоритм, 2020. С. 94