Я вижу свою старую гостиную, ту гостиную, какой она была в те времена, десять лет назад, с больными желтыми стенами и тусклым слезящимся огнем, что подтекает с потолка изо рта маленькой лампочки на все тот же диван и ковер, рыжие углы польской стенки, предметы, узнаваемые вполоборота, как дальние родственники, покойные, но вновь обретенные зачем-то, здесь, в тяжком полумраке комнаты, я лежу на боку, уставившись в обои, а может быть, в провода неглубоко за ними. Воздух странно густ, и этого никак не объяснить, невозможно, но я чувствую, как обостряются краски, как светом опухают углы, и ты вдруг лежишь под ними, раскинув руки, настоящий, недвижимый, лежишь ты, совсем близко, собираешься за моей спиной, будто весенний дождь, будто сумерки, из плоти и голоса, ниоткуда. И страшно поверить в старый торшер, что уронил голову на грудь, как расстрелянный, в зыбкость волнующихся подобно водорослям полок, я лежу, боясь пошевелиться, боясь закрыть глаза, с неба на меня надвигается потолок и ходит дрожью рябь по нему, словно по пруду.
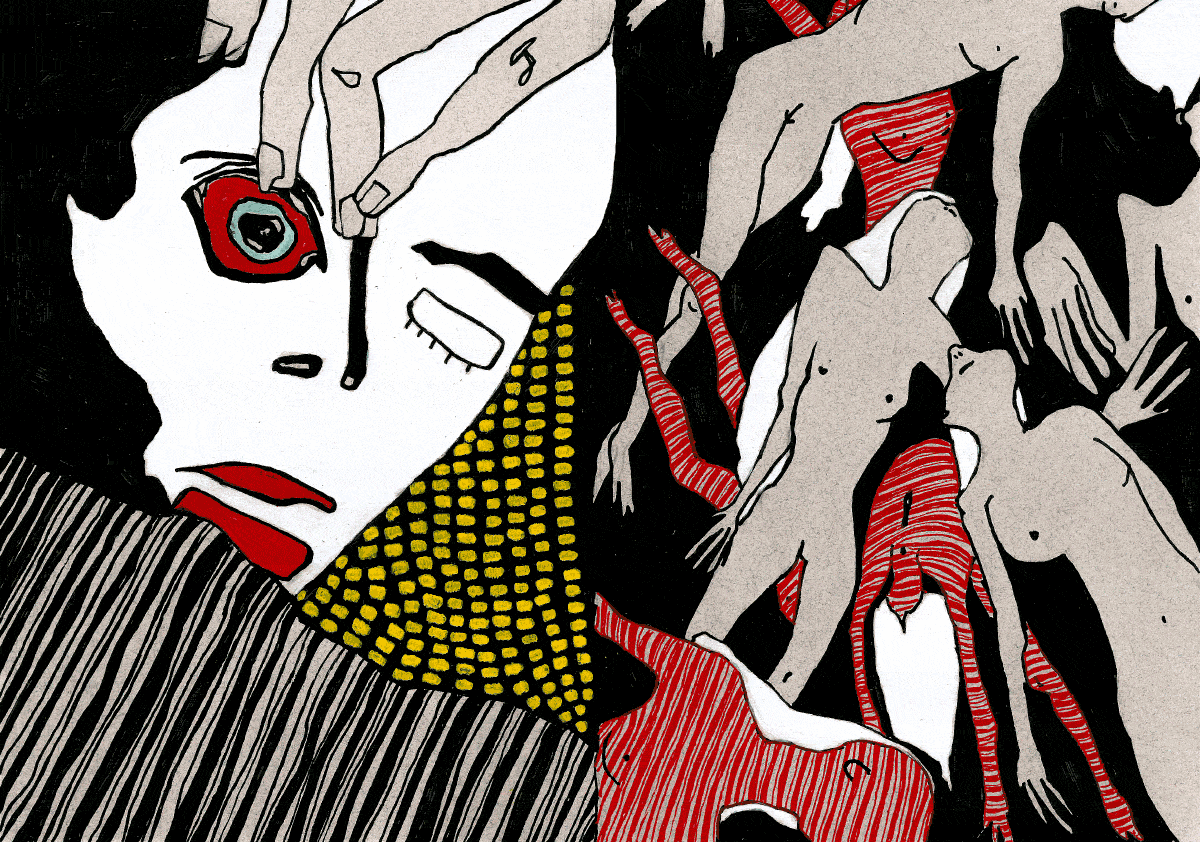
Торшер разбит, торшер повержен, отец сбросил его на свалку восемь лет назад давней заблудившейся весной, когда раскрывались тополя и буйствовал ветер, мы шли между синих кустов, взявшись за руку, навстречу летели бумажки и облака, распушали белые хвосты в том далеком апреле, закричавшем мне в уши мертвым младенцем, запахом мать-и-мачехи, детства, сухой и душистой земли, он упал и разбился о неё, порезавшись о теплый валун. Помню, как солнце размешалось в трещинах, грустно блеснула металлическая ножка, мы распрощались навсегда, но сейчас бархат парит в полумраке, сипло поет огонек, торшер стоит здесь, пустая голова его качается, а над ним качается пыль и ночь. Будто сказочные черные ясли с узорами, звездами и серебряными львами, из стороны в сторону бесконечное немое кино, в котором снова и снова твоя ладонь тянется к моей щеке, касаясь ее пальцами, чертит линию, медленно от виска к губам, рисуя их полностью, рисуя их заново, я хватаю и вжимаюсь в нее вся, твоя ладонь на моем лице, я питаюсь ей, как молоком, как инсулином питается больное, я пью ее губами, сухие линии твоего сердца — высохшие русла рек, ветки судьбы и жизни, я заполню их все, как будто так было всегда, как будто во веки веков, твоя рука была частью меня, соединявшая нас миллионы лет, мы песочные часы и давным-давно нас вылепили в одно и то же, спасая от жажды, спасая от обескровленности. Волосы, щека, крылья носа, ты гладишь мою шею, у меня повышается температура, веки светятся, мои клетки поднимают головы, словно тюльпаны, и вот ты берёшь мой подбородок, берёшь, поворачивая к себе, и я вижу тебя всего, твоё лицо, возникающее из ниоткуда, складывающееся калейдоскопом на жёлтом потрескавшимся потолке, потерянное и обретенное вновь, это оно, его безошибочная геометрия, что нарисована во мне углем так плотно, где место, где лежит она, где сила, что ее сотрет.

И я целую тебя как в первый раз, как когда-то давно, застывая над нижней губой, находя все трещины, металлический шрам в уголке рта, я знаю тебя, я тебя знаю, мы смотрим в упор, ощущая, предугадывая друг друга, вглядываясь в микрокосмос зрачка, мы — планеты, привет, привет, это я, твой кальций, твой белок, твои антитела. Дай мне свой язык — и мы переродимся. Это я. Твой кварк, твой электрон, начальная материя всего. Дай мне язык, и мы размажем Млечный Путь, как мед. Слышишь? Как мед. Пожалуйста, не молчи. Это я, это я. Мы всесильны. Ты слышишь меня? Шторы переливаются, словно океанические рыбы. Я держу твою голову, твоя шея так горяча. Она становится горячей, и все множество хмурых углов берутся молчать вместе с тобой, сгущая переносицы, воздух густеет, что-то теплое сочится по локтю и, отнимая от тебя свои руки, я вижу их красными свежими, злыми маками, и уже черная кровь, как змея, доползла до плеча, тонкие струйки крови бежали из твоих ушей, заворачивая на щеки, перечеркивали лоб, разбухали трещинами по лицу, раздваивая, растраивая его, глаза твои мутнели, из губ вырывались страшные, незнакомые слова, подобные шепоту древних пустынь, я умоляю, я пытаюсь зажать тебе рот, но они прорастают между пальцев, как гнилые цветы, скулы раздвигаются льдинами, показывая кость и сосудные ленты, мякоть жиров, твое лицо расползалось у меня в руках, будто свежая могила, будто последняя арктическая заря растекалась у меня на глазах, и я проваливалась в нее. Стены безмолвствуют, углы крепче сжимают сухие строгие губы, тени медленно берутся за руки и окружают нас. Ты обрушиваешься на пол, хрипя и закручиваясь соленым винтом по ковру, напоминающий заводную юлу, терзаясь, раскалываясь, ты орешь все сильнее, и я все еще хватаю за волосы, кричу и пытаюсь собрать все, что осталось тобой, оставаясь в тебе по локоть, но сумерки зажимают лампочку и темнеют корешки старых тетрадей, я хватаю тебя за волосы, но что-то во мне уже знает, догадывается, как тихий настойчивый голос мне шепчет о том, что все бесполезно, тебя не спасти, что сжимаются круги на портьерах, что страницы у книг здесь пусты и черны, словно глаза твои, что ковер этот никогда не отмыть, и можно даже не пытаться петь о помощи и ломиться в двери бесконечных верхних этажей, в которых каждая следующая квартира похожа на предыдущую, будто операционная, и как капли масла плавают в них желтые лампочки, выбитыми зубами строятся в ряд разбитые торшеры, шкафы без дна, где в самом дальнем ящике на самой последней полке аккуратно сложено бессилие. Изменить что-либо, перекрестить полюса, и что в этом мире ты предаешь меня точно так же, как и в том, другом, настоящем, оставленном нами по ту сторону вещей, предаешь точно так же, и, в сущности, нет никакой разницы, родной мой, в чуть слышных твоих веках выцветает белизна и тускнеет замирающий лоб, но я уже знаю, что делать, тяжелыми шагами отступая к окну, просачиваясь между загорающихся кресел. Лишь бы ручка от двери была на месте, лишь бы не заклинило дверь, и тогда да, точно так же и здесь, в этом мире нескончаемых снежных галерей несуществующего, где прошлое с запахом сахара и старые поцелуи высыхают на потолках, светят выброшенные светильники, где всякий мертвец готов повязать тебе галстук надежды на лестнице, ведущей в никуда, здесь, в этой жизни, где ты лежишь, как раздавленное насекомое в бульоне из собственной крови, где я открываю балконную дверь и, медленно перелезая через ограждение, падаю ночи на руки.




















